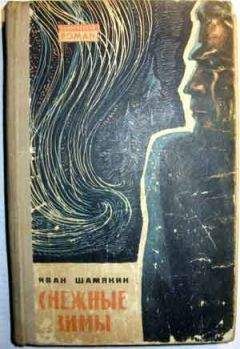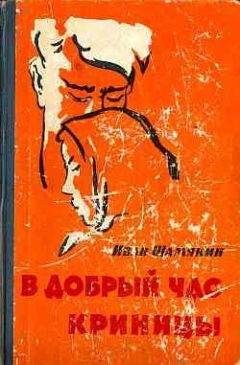Я долго молчал. Знаю, многие из сегодняшних гуманистов могут спросить: почему? Почему молчал? Разве можно было колебаться? А кто из вас теперь, при мирной жизни, так сразу, не задумавшись, возьмет на себя ответственность за сотню детей? Я должен был взять ответственность за их жизнь. Детский дом — все-таки детский дом, пускай голодный, холодный, под стражей. А бригада — фронт. Кто станет тащить детей на фронт? На передний край, под пули?
Фашисты презрели все законы человечности. На фронте брали в плен. Нас, партизан, расстреливали на месте. Дети в зоне боя, в лесу, считались партизанами, их уничтожали. Это я хорошо знал. Именно тогда, в тот миг, впервые с такой силой почувствовал то, что вчера. Сжалось, защемило сердце.
Выговорился директор. Умолк. Глядит на меня. Так же глядит Корольков. Ждет. Как представитель центра он мог подсказать, мог приказать. Но, пробыв три месяца среди партизан, понимал, что не тот случай, когда следует проявить свою власть.
«Сколько детей?» — спросил я.
«Шестьдесят семь. А было сто восемь. Сто восемь! Куда они забирают моих детей? На что им дети?»
«Вывести ночью можете в лес под Потисню?»
Директор удивился, что я так хорошо знаю окрестности далекой Петровки. Загорелся. Замахал руками.
«Выведем, товарищ командир. Выведем. Мы ведь в имении. Правда, охрана и у нас стоит. Но — свои… Какие там свои! Бобики, сукины дети! Но у нас… у нас… смирные. Они не стоят, а спят в доме. Мы их напоим… И самогоном. И снотворным… Выведем!»
«Кто пойдет с детьми?»
«Трое нас. Всего трое. Я… Клавдия Михайловна. Нет… я вам скажу по секрету. Она — Клара Моисеевна. Наша старейшая воспитательница. Мы маскируем ее и дрожим, что кто-нибудь выдаст… Все же местные. Знают… Но это такой человек! Такой человек! Мать для всех детей. Люди прокляли бы того, кто выдал бы ее немцам. Она и кормит и лечит детей. Да и не только детей. Она зарабатывает для нас хлеб тем, что лечит других, роды принимает. Когда разграбили аптеку, мы кое-что взяли для своего дома. Дети же. Они болеют… А нам надо жить. Тогда мы думали — недолго. Вот-вот вернутся наши. Но когда немцы стали забирать детей…»
«Десять повозок хватит?»
Директор задохнулся от счастья. Когда дежурный повел его на кухню — накормить, Корольков встал и протянул мне левую руку — правая, забинтованная, висела на повязке. До боли сжал мои пальцы.
«Иван Васильевич! Ничего не говорю. Слов не надо! — Он взволнованно прошелся по хате, не выдержал: — Одно скажу: какие люди! Какие люди! Нет, ты только задумайся, комбриг, над этим фактом. Никто не выдает старую воспитательницу, хотя знает немецкий приказ. Даже полицаи боятся… Гнева людского боятся. Матерей, жен, которые никогда не простят. Какой факт! А? Какой факт!»
Для меня он казался обычным. За полтора года войны мы, партизаны, были свидетелями сотни случаев такого вот интернационального единства советских людей. Когда детей привезли, встречать вышел весь штабной отряд, все крестьяне деревни, где мы размещались. А было это — только чуть развиднелось, на рассвете. Скатились они колобочками с саней в своих лохмотьях и удивленно таращились, почему собралось столько народу и почему женщины плачут. А бабы и вправду подняли вой. Хватали малышей, разводили по хатам, чтоб накормить скорей, согреть. Забот прибавилось. А самолеты не прилетали. И погода как будто стояла ничего. Хотя кто знает, какая она была там, под Москвой. Метеосводок не передавали. Однако же полмесяца не могла мести метель. Если б хоть не было обещаний, может быть, легче бы ждалось. А тут еще разведчики донесли, что немцы готовят новое наступление на наш район. У меня лопнуло терпение. Я составил радиограмму:
«Начальнику штаба. Если завтра-послезавтра не будет самолетов ответственность за смерть раненых и детей ляжет на вас. Комбриг Антонюк».
Перед тем как отдать шифровальщику, показал Королькову и Лагуну, комиссару бригады. Корольков побледнел. Дрожал человек перед начальством и за тысячу верст, за линией фронта.
«Ты серьезно?»
«Мне совсем не до шуток».
«Да ты что, субординации не знаешь? Комбриг! Имей в виду: быть советским партизаном — не значит партизанить, как тебе вздумается. Ты член партии. Анархии не разрешим! Запрещаю отправлять такую радиограмму!»
Я послал его… Эх, как он взвился! Чуть до сердечного припадка не докричался. Я приказал позвать врача. Лагун, добрый, умный, но нерешительный человек, уговаривал меня, пока мы шли к землянке, где помещалась рация:
«Наживешь ты себе, Иван Васильевич, неприятности».
«Да я что — ради чинов воюю, ради званий, орденов? Какие у нас с тобой могут быть неприятности больше, чем наступление карателей, чем блокада? Что нам тогда делать с ранеными? Бросить на надругательство фашистам?»
Радиограмма пошла. На следующую ночь прилетел самолет. И Корольков сразу стал — хоть на хлеб его мажь. Чуть не лез целоваться. Сам организовал прощальный обед. Заглядывал в котлы на кухне. И всем «раздавал ордена». А у меня заныло сердце в то утро. Там же на аэродроме, у замаскированного самолета. Сосала какая-то непонятная тревога, или страх, или бог его знает что. Все казалось: что-то я сделал или делаю не так, как надо. Но что? Объехал посты, наведался в отряды, занимавшие самую дальнюю оборону. Нет, все в порядке. Немцев близко не слыхать. Небо обещает летную погоду. Ночью самолет с тяжелоранеными возьмет курс на подмосковный аэродром. И никто его в такую ночь не перехватит, разве что над линией фронта обстреляют зенитки. Но пилот говорит, что это не страшно. Примерно к полудню вернулся в штаб. Сидят Корольков, Лагун, Будыка, врач, пилот. Сочиняют план эвакуации. Проще говоря, составляют список, кого вывезти в первую очередь. Протянул список мне. Долго я читал двадцать каких-то фамилий. Так долго, что они все притихли и насторожились.
Врач сказал:
«Хотели Валентина Адамовича включить, он отказался».
«Да я уже скачу, как заяц», — засмеялся Будыка, стукнув костылем.
Между прочим, и позднее, осенью сорок третьего, он отказался эвакуироваться. Вызывали на совещание начштабов — притворился больным. Все почитали за счастье полететь на Большую землю, а Будыка всячески уклонялся. Но тогда я подумал о другом: «Валька отказывается, хотя такой же раненый, а некоторые рвутся…» С новой силой засосало в груди: что-то тут не так. Но что? И вдруг… В таких случаях говорят — осенило. Я бросил список на стол и сказал: «Этим рейсом полетят Чугунов, Концевой, Файзулин. Им нужны неотложные операции. Клара Моисеевна и дети. Пилот, сколько можешь взять детей? От пяти до десяти лет?»
«Дети? Каких детей?»
«Наших».
«Здоровые? Сидеть могут?» «Могут».
«Да такого гороху человек… тридцать».
«Зер гут, панове офицеры. — весело сказал я. — Так и запишем: летят все малыши».
Но в ответ — лишь более шумное, чем обычно, со свистом и хрипом, простуженное дыхание Королькова да скрип новой портупеи пилота. Будыка взглядом одобрил: правильно! Но ждал, пока выскажется уполномоченный. Лагун тоже смотрел в рот Королькову. А тот молчал. Долго. «Чапай думает», — хотелось мне пошутить. Может быть, он сейчас встанет, пожмет руку, как тогда, когда пришел директор детского дома?
Корольков обдумывал с важностью и значительностью человека, на которого возложена высшая ответственность. И сказал рассудительно и спокойно: «Иван Васильевич, мы понимаем тебя, твои чувства. Мы — все отцы, и первая наша забота о детях, что бы ни случилось, какая бы сложная ни возникла ситуация. Дети — наше будущее. Однако давай все взвесим. Представь, что самолет опять не прилетит неделю, а то и две. Ты слышал, что рассказывает пилот. Все транспортные машины брошены под Сталинград добивать Паулюса. Вот и думай… А в это время Швальде начнет наступление. И вдруг окажется, что вам придется отойти. Война есть война, особенно партизанская. Детей можно раздать по селам. Селяне их смело возьмут, их легко выдать за своих. Да кто будет детей искать? А раненые… Куда ты денешь раненых? Наконец, ты уверен, что сами раненые нас поймут? Им известно, что прилетел самолет, и каждый мечтает поскорей оказаться на Большой земле, в госпитале. Ты не знаешь психологии раненого».
Его тут же поддержал наш бригадный врач Вапняк. Мы уже привыкли: чуть что не так, доктор сразу ставит ультиматум. Я не раз грозил ему, что расстреляю за такие ультиматумы, но на него это мало действовало. Он и тогда начал с заявления, что, если эти раненые — прочитал фамилий пятнадцать — останутся в наших условиях еще хоть на один день, он слагает с себя обязанности главного врача. Можете расстреливать его, можете вешать — как вам больше нравится. За ним — Лагун, добренький, деликатный. Напомнил, что в отряде живет ребенок, которому всего второй годик, — Вита! — и ничего, здоровенький растет. Одним словом, намекнул перед отлетом уполномоченному, в каких отношениях командир бригады с матерью этого ребенка. Капнул. Но меня это мало тронуло, потому что тайны я не делал.