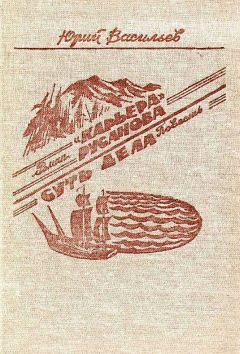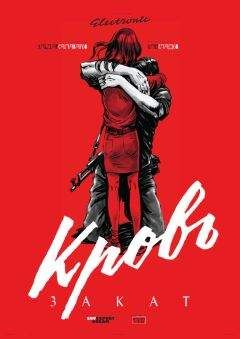— Ну, карусель! — сказал он себе. — Ну, цирк! Мемуары буду писать, честное слово. То меня, старую рухлядь, кидают черт-те куда на парашюте, чтобы я между небом и землей помер от страха, то вот извольте…
Потом ему стало не по себе. Карусель каруселью, но, черт возьми, этих дырок в спине у парня могло бы не быть…
Он вспомнил, как третьего дня сидел в поселковом парке и курил. Мимо прошел потрепанного вида человек, потом вернулся, похлопал себя по карманам и сел.
— А что, батя, папироской я у тебя не разживусь?
Шлендера обдало тяжелым перегаром. Он молча протянул пачку.
— Благодарствую. На пятерочку, случаем, не разоритесь?
— Зачем?
— Ну так… На пиво.
— Не дам.
— А на хлеб?
— Тоже не дам.
— Какого черта спрашиваете в таком случае?
— Это я от неожиданности, — усмехнулся Шлендер. — Давно, знаешь ли, пятерочки у меня не клянчили.
— Вот-вот… Интеллигентная душа! Нет чтобы отматерить… Стыдно за меня, да? А вы не стыдитесь, не надо, ибо мертвые сраму не имут. Алкоголик отличается от покойника знаете чем? Немногим. Он отличается неистребимой тягой к пустопорожней болтовне, но для этого ему нужна минимум пятерочка. Понимаете? А собеседник ему не очень нужен… И знаете, что в этом самое примечательное? То, что это не трагично. Нет! Это просто… так есть. И все тут… Хотите, я почитаю вам стихи? Нет? Я понимаю: стихи и перегар несовместимы, да?
— Ладно, — сказал Шлендер, поднимаясь. — Я пошел. Вот тебе рубль, держи. Только уж от стихов меня избавь.
— Спасибо… Взяточка, так сказать, да? Отступное, чтобы я вам хорошего поэта не портил, не читал его в скотском состоянии? Я оценил. А почему вы мне не скажете, что пить и попрошайничать стыдно? Это ведь модно сейчас — воспитывать.
— Алкоголики сраму не имут, ты же сам говоришь.
— Ох, и пропью я ваш рубль.
— Пей на здоровье.
— Добрая вы душа.
— Ну нет, я не добрый. Я просто не знаю, что с такими хануриками делать. Высылать вроде бы дальше некуда. Лечить? Давно ты таким вот образом?
Парень смотрел на Шлендера почти совсем трезвыми глазами.
— Давно, — легко кивнул он.
— Не работаешь?
— Когда как.
— А на какие гроши пьешь?
— Сам удивляюсь.
Шлендер снова сел, вынул сигареты.
— Кури.
— Закурю… Значит, потянуло-таки вас на душеспасительную беседу? И отчего это, скажите мне, в каждом сидит эдакая потребность вынуть из человека нутро, подержать его в руках, пощупать, а то и понюхать — посмотреть, словом, из чего он внутри сделан, а потом запихать всю эту требуху обратно… Да еще спросить — не беспокоит ли?
— Ой, ну комик ты, — рассмеялся Аркадий Семенович. — Ну, уморил! Я-то ведь и впрямь всю вашу человеческую требуху каждый день в руках держу и обратно запихиваю.
— Хирург?
— Хирург.
— Благородная профессия… Книги о вас пишут, как вы по ночам не спите. И еще пишут, как вы терзаетесь, какие муки принимаете, когда свою любимую науку и своих друзей в дерьме вымажете… Кандидат? Вид у вас кандидатский. И как? Среди вас уже есть такие, что не переходят… Ну, не переходят каждый раз на освещенную сторону улицы? Главное — вовремя перейти. Так исповедывал профессор Званцев. Вы не читали его труды, его собрание сочинений, переплетенное в иудину кожу? Нет, конечно. Он пигмей… Представьте — нагадить в аквариум с золотыми рыбками! Бр-р! Да? А жить с проституткой в чине профессора и каждый день подавать ему руку, полагая, что длань эта денно и нощно сеет разумное, доброе, вечное?.. Вы идите. Я неврастеник, как все алкаши… А рубль я ваш пропью. За упокой былых времен и как это там?.. Ладно. Хрен с ним. Точка.
Он замолчал. Лицо его теперь казалось Шлендеру молодым, даже чем-то приятным, хотя под густой щетиной просвечивала синеватая кожа давно и основательно пьющего человека.
— Расскажи подробней, — попросил Шлендер.
— Не хочу… Я их наизусть выучил, все эти подробности… В рубашку плакал, как щенок, теперь… Чего теперь рассказывать? Двадцать шесть лет, три курса университета, трудовая книжка, по которой можно изучать географию Союза… Отчим — профессор. Банально и просто, как видите. Спившееся чадо из обеспеченной семьи.
— Звать тебя как? — зачем-то спросил Шлендер.
— Геннадий.
— Помочь я тебе ничем не могу?
— А зачем?
— Что «зачем»?
— Зачем, говорю, помогать? Вот ведь… тянет всех на потребительский гуманизм! Валяйте, водите меня к себе. Оденьте, обуйте. Как Жана Вальжана. А я у вас потом столовое серебро стяну. — Он грубо рассмеялся. — Помочь… Когда человеку гроб сколачивать пора, врачи его от гриппа лечат или бородавку ему на носу выводят… Чем вы поможете человеку, у которого перебит позвоночник? И потом… если он не хочет — понимаете? — не хочет, чтобы ему помогали.
Он как-то сразу сник и снова стал серым, тяжелым, старым.
— Тебе чем позвоночник сломали? Водкой? Мировая скорбь заела?
— Есть такая наука — сопромат, — продолжал Геннадий, не обращая внимания на язвительный тон Шлендера. — Так вот, меня плохо выстроили. Без учета среды. Напичкали всякими глупостями в золоченой бумажке, потом я бумажку ту развернул, а внутри — дерьмо… Вот так.
Шлендер вдруг разозлился.
— Дурак ты! Дурак и позер! Спину ему перебили, видите ли… Затасканные штучки. Никто почему-то не жалуется, что сам себе голову открутил.
— Все-то вы знаете, — равнодушно сказал Геннадий. — Мудрый вы… Ладно, поговорили, и будет. Идите своей дорогой, а то я опять сорвусь и такую вам истерику закачу… Мне не привыкать.
— Я пойду.
— Вот и идите… Закурить только оставьте, если не жалко.
Аркадий Семенович уже совсем было дошел до дома, но, постояв у подъезда, повернул обратно. Осталось что-то недоговоренное. Или недоделанное? Хотя — что? Алкоголиков не видел? Слава богу, повидал всяких и разных. И Ростана читали, и Есенина.
Парня на лавке не было.
Сейчас, припомнив все это, он снова подумал, что получилось как-то не так. Нелепо получилось. Выслушал все и ушел… А что надо было? Взять за руку, привести домой, вытереть сопли? Сам пьешь, сам и отвечай.
Так-то оно так. И все-таки — что-то не так…
Тебя звали Таней.
Спасибо, что ты пришла. Только… ты не давай мне спать, слышишь? Не давай мне спать, потому что во сне я говорю страшные слова, очень страшные, тебе нельзя их слушать… Когда-то, очень давно, так давно, что неизвестно — было ли это, я читал тебе «Мцыри». Помнишь? А твой голубой бант? Он еще цел?.. Знаешь, Танька, я видел его совсем недавно, вот только не вспомню где? Нет, не вспомню… Не давай мне спать… Так хорошо, что ты пришла… А это кто? Сестра! Кто это?!
— К вам отец.
— У меня нет отца.
— А я?
— Ты? Кто тебя пустил? И почему ты в белом халате, ведь он не может быть белым, на нем дерьмо… Или отмыл уже? Ну да, отмыл, конечно, ты ведь всегда вовремя все успеваешь сделать… Садись. Мне даже любопытно, что ты пришел… Погоди, я задам тебе деликатный вопрос, пока ты не начал на меня кричать. Ты уже академик? Нет? Ай-ай-ай! Седой, заслуженный, и все, выходит, даром? Как же это? Или сребреников нынче уже не платят?
— Замолчи, щенок!
— Ну-ну… Ты не кричи, тут больница, а не твоя вшивая кафедра. Ты сюда зачем пришел? Я знаю, ты пришел сказать: «Ну что, допрыгался, подонок?» Да? Ну, так я тебе отвечу: я социально не опасный алкоголик, а ты… Впрочем, ты теперь тоже так себе, потертая старая шкура… Пошел вон, слышишь? Иначе я кину в тебя графином!
— Русанов, что с вами?
— Зачем вы пустили сюда этого типа?!
— Успокойтесь. Здесь никого нет. Выпейте… Ну вот. Теперь засните.
Палата. Белые стены. Тихо, темно. Ночь. Из приоткрытой двери на пол у его кровати падает тонкий луч света.
Сколько времени он здесь?
День сменяется ночью, но это где-то там, черт знает как далеко, а здесь он приходит в сознание почему-то только ночью, да и то не поймешь — бред это или явь. Думать ему трудно. А надо. Очень надо. Что-то он не успел додумать, когда был на ногах, какие-то мысли уже приходили в голову. Что будет дальше?
Кружатся стены. Кружится дверь. Там, если повернуть голову, в узкую щель можно увидеть чье-то лицо. Наверное, сестра. Или няня. Он не знает точно.
Несколько раз он видел рядом знакомого рыжего дядю с цыганскими глазами. Сидел на стуле. Откуда он его знает?.. Бред?.. Потом приходил следователь, его, кажется, не хотели пускать. Разговор с ним помнит плохо. Память стала совсем дырявой. Может быть, это к лучшему? Крутятся чьи-то лица, обрывки разговоров, быль мешается с небылью, курильские рыбаки ходят с ним по Москве, потом зачем-то появился рыжий доктор, с которым он вел свою последнюю интеллектуальную беседу, порывался даже стихи читать. Кружатся стены.