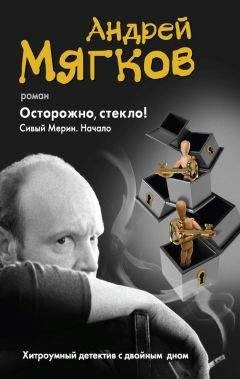— Та-ак! — глядя в Безыменку, протянул Губин, — значит, не отпираешься, что не все в контору сдаешь?..
Яков тихонько, предупреждающе ткнул сына:
— А что есть так, как тут душой кривить? — ответил Макар.
— Молодчина… Так и говори… Люблю правду… Хороший ты парень, — Губин посмотрел на Макара взглядом, в котором проскальзывала усмешка.
— Я говорил, Иван Порфирыч, вам, что не чисто тут, — сказал Ахезин.
— Не чисто?.. А по-моему, так все хорошо. На чистоту идет парень-то, не отпирается. То и хорошо… Зря ты, Исаия Иваныч, привел меня…
— Так ведь воруют, Иван Порфирыч!
— Воруют? — Губин захохотал. — А ты не воруешь?..
Ахезин замялся.
— Ну, ты не воруешь? — настаивал Губин.
— Вы не про то заговорили, Иван Порфирыч!
— Как не про то?.. Про то! И ты воруешь, и я ворую. Все мы воруем, а ворам воров стоит ли ловить. А? Как по-твоему?
Лицо Губина смеялось, а Исаия, как пришибленный, стоял и тыкал суковатой тростью в песок.
— Вот что, ребята, — проговорил Губин, — зарез-то в казенную припишите, а то не тае — не важно. Дело-то пустяковое. Ты приди ко мне. Как тебя зовут?..
— Макар Яковлич, — сказал Исаия.
— Я не тебя спрашиваю, — не глядя на Ахезина, сказал Губин. — Ты приезжай, мы все это устроим!
— Я не знал, как и зарезался, — заговорил Макар. — Тут отец и Исаия Иваныч знали и мне не говорили. Прижимки тут!
— Верно, а ты этих пиявок-то, кои к тебе льнут, отбрасывай подальше.
Исаия злобно взглянул на смотрителя и, усмехнувшись, тихо пошел вдоль речки.
— Одна пиявка — Ахезин, — сказал Макар.
— Ну, ладно… Как тебя… Макар… Он мне сказывал, ты в бога матюкаешься.
— По-пьяному вышло… Людей они не уважают…
— А ты уважаешь людей?
— Кто стоит!
— Пойдем-ка отсюда… Жарко у вас здесь!
Губин, сопровождаемый Скоробогатовыми, направился к казармам, молча перелезая через коряги, а когда вышел на чистое место, сказал:
— В бога не матюкайся, да и вообще не матюкайся. Не хорошо это… А ко мне ты приезжай, хоть в контору, хоть домой!
Под вечер Губин, пьяненький, уехал с прииска.
Проводив смотрителя, вернулись в казарму. Исаия, заложив руки за спину, прохаживался взад и вперед, посматривал на Макара. Наконец, пожевав впалым ртом, сказал:
— Доволен?
— Чем?
— Что смотрителя-то оболтал?..
— При тебе дело было.
— Умники. Молодые, а ранние. Ума-то забираете не по себе!
— Хороший человек и рассуждает по-хорошему!
— Знаем мы их, хороших!
— А зачем притащил его, если плох?
— Начальство. Поставят палку, прикажут: слушайся! — будешь.
— Для меня поставь дубину — увижу и скажу, что дубина, — отшвырну.
— Не ерепенься… Не отшвырнешь. Богом все эти законы установлены. Отшвырну! Швыряло несходное!..
— По-твоему, бог дубины да палки к людям ставит для острастки. Видно, ими и бьет?..
— Какой ты человек, коли так говоришь про бога?..
— А ты вот походя псалмы божественные распеваешь и мошенничаешь!
— Говорок! Говорок!.. Ишь, ведь, так и чешет. Эх, умный ты, Макар Яковлич, да не на том пути ум твой стоит! Замажешься ты где-нибудь. Погоди! Привалило тебе, а ужотко, погоди, отвалит. Поеду я. Грохота-то я припечатаю своей печатью, без меня не вскрывайте.
Ахезин вышел из казармы и, запечатав все станки, направился по ухабистой дорожке к прииску Глубокому.
На другой день Ахезин не приехал… Грохота заполнились — нужно было делать сполосок.
— Не едет, мокрица, — ворчал Макар.
Вечером он поехал на Глубокий, но и там Ахезина не нашел. Утром отправился в Подгорное. Проезжая мимо губинского дома, он посмотрел на окна, подумал: «Разве заехать к Ивану Порфирычу?..» Но к Губину не заехал, а направился к Ахезину.
Дом Ахезина стоял на бугре, обросшем зеленой травкой. Двухэтажный, деревянный, он почернел от старости и накренился одним углом, отчего окна с сизыми стеклами перекосились. Макар постучал в старые деревянные ворота. Вышла Поля, дочь Исаии, крепкая, смуглая девица. Ее темносерые глаза бойко бегали, рассматривая Скоробогатова. Над верхней губой пробивался чуть заметный пушок, как у молодого парня.
— Вам кого? — грубовато спросила она.
— Исаия Ивановича… у себя он?..
— Дома, заезжайте!
В красной рубахе, выпущенной из-под черной стеганой жилетки, в тиковых штанах, в опорках на босую ногу, Ахезин вышел во двор.
— Гость? — воскликнул он. Лицо его сморщилось в торжествующую улыбку. — За мной приехал?..
— За тобой!
— Доводочку?.. Знаю… Занедужилось мне что-то… Давай заходи в домишко-то.
Поднялись наверх по кособокой и скрипучей лестнице. Пол в сенях был щелистый, покатый.
В комнате Макара обдало густым запахом ладана. В углу стояла большая божница с иконами, обвешенными полотенцем с красными каймами. Под божницей чуть дымилась медная кадильница.
— Что у тебя покойником пахнет? — спросил Макар.
— Все живы и здоровы. А что ладаном-то припахивает, так это я только сейчас помолился… Садись, давай, Макар Яковлич, гостем будешь.
Исаия говорил ласково, со скрытым торжеством. Змеиные глазенки его поблескивали.
«А ведь и врет, что издыхает… Кочевряжится… Срывку ждет», — подумал Макар.
Сев на табуретку и зажав желтые с надутыми жилами руки в тощие колени, Ахезин, покачиваясь, заговорил:
— Вот погляди как живу! Беднота кромешная.
— Вижу.
— Да, так. Ровненько живем, — ни шатко, ни валко, ни на сторону… Не скачем из бедноты в богатство, из богатства в бедноту.
— Можно лучше жить.
— А оно спокойнее так-то живется, Макар Яковлич, когда людям одинаковым кажешься, незаметным. Не пялят глаза-то, не замечают, что есть такой-то человечишка на земле, а мне больше ничего и не нужно.
— Понимаю.
— Н-да… На руднике-то зря чешут языками, что Ахезин лопатой платинушку гребет. Говорить что угодно можно, но труднее всего у людей правда выговаривается. Она, видишь ли, милейший мой, как-то вязнет во рту… А мне, впрочем, наплевать! Пусть что угодно говорят! К сухой-то стене не прильнет. Христос терпел и нам велел.
«Сирота казанская», — подумал Макар.
А Исаия продолжал, смирненько сидя в темном углу:
— Ладно, живем и на это жалованьишко, хоть и не корыстно — тридцать пять рублишек… Ну, а где больше-то возьмешь? Потихоньку.
В комнату вошла черноглазая девушка.
— Вот у меня дочка — Марьюшка, — встрепенулся Исаия, — а та, что тебя впустила, младшая — Поля. Давай-ка, Марьюшка, нам что-нибудь закусить… Макар Яковлич с дороги, поди, заголодал. Домой-то не заезжал?
— Прямо с рудника к тебе.
— Ну вот!
Маша, посмотрев на Скоробогатова, чуть вспыхнула. Лицо ее было темное, худенькое, с кроткими глазами, с тонкими полукругами бровей. Волосы вороные, блестящие, плотно прилегали к голове. Она робко подошла к Макару, подавая руку, слегка присела, пригнув колени.
Макару это показалось смешным и странным.
Тихо она ходила и подавала на стол закуску. Половицы под ней так же покорно и тихо поскрипывали.
Вошла жена Исаии, такая же тихая, как и Маша.
Жена и дочери молча сели за стол. Каждый взгляд, каждое движение Исаии было им понятно.
— Графинчик принесите да долейте в него… Анись-юшка, добавь-ка щец-то!
Молча, четко и осторожно исполняли каждое приказание Ахезина. Осторожно ступали, осторожно садились, точно боялись тряхнуть стол.
Макар тоже осторожно пододвинулся к столу.
Но после двух стаканов водки он стал смелей и пристально уставился на Машу. Когда их взгляды встречались, она слегка краснела.
«Славная, — подумал Скоробогатов, — только худа больно — переломится».
Полиного смелого взгляда он не мог выдержать, отводил глаза. Поля замечала это и слегка улыбалась.
Исаия незаметно наблюдал острыми глазенками за Макаром и за дочерьми. Вдруг он стукнул ложкой по столу.
— Глазами не перестреливайтесь, за трапезой сидите… Божий дар жрете…
Потом, обращаясь к Скоробогатову, спокойно проговорил:
— Ты уж не обессудь! Детей я своих держу в страхе и послушании.
— Ты чего это сдурел? — тихо вмешалась жена Ахезина.
— А ты молчи, не потачь!.. Я знаю, что делаю. Пока я здесь хозяин!
Поля и Маша густо покраснели и вышли, а Исаия продолжал:
— Ты уже извиняй меня, Макар Яковлич, на моем угощении. Уж чего есть, то и ешь. Вы ведь теперь тысячники. Знаю, что тебе не глянется эта еда… Вон какой Домище-то схропали… Только, смотри, не закопай его… Отец-то твой много домов закопал.
После обеда Ахезин повел Скоробогатова в огород. Там и показал ему беседку, сплетенную из прутьев куполом. Вокруг нее разрослись тыквы и протянули свои плети вверх по прутьям беседки, спуская круглые плоды в беседку.
— Вот у меня огурчики растут, тыковка… Кашку я люблю из нее. Вот картошечка, лучок… Оно все свое-то, не с купли-то спорее выходит — незаметно как убывает.