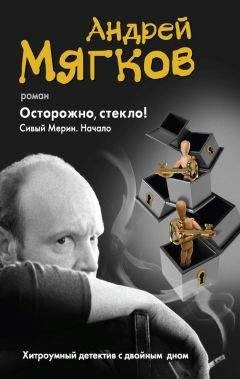На бровку тракта вышли двое бородатых мужиков. Они остановились.
Один крикнул:
— Есть покурить?
— Нет, не курю я, — торопливо ответил Макар и поскакал вперед.
Солнце спускалось. Выглянув в прореху просеки, оно запуталось в ветвях леса, потом скользнуло огненным шаром по сучку старой лиственницы и утонуло за тупым шиханом горы, брызнув в небо золотом. Просека как будто переломилась через гору и упала концами вниз, в черные дали лесов. Впереди горы казались выше. Они там поднялись грядой, купаясь в огненной заре.
Макар снова поехал шагом. Вслед ему катилась песня.
«Поют бродяжки», — подумал он.
Конь осторожно ступал по влажному грунту, прядя ушами. Песня будила тоску. Он глубоко вздохнул.
На кровле филин, филин прокричал…
Раздался шум в лесу…
Подавленный нахлынувшей непонятной тоской, Скоробогатов ехал по заснувшей рамени. Ночь сгущалась. С неба глянули звезды.
…Прииск еще спал, когда приехал Ахезин.
За ночь надвинулись тяжелые тучи. Оки закутали серыми космами не только небо, но и вершины шиханов. Моросил мелкий, холодный дождь. Котловина речки Безыменки казалась глубже. По увалам виднелись сквозь туман неясные силуэты елей.
Люди лениво двигались, боясь выглянуть из теплых, сухих, хотя и дымных, казарм в зябкую муть.
Ахезин в длинном кожане с башлыком, вскрыл станки. Кожан на нем топорщился. Тощее лицо выглядывало из башлыка.
Сполоснули шлихи. В хрустальной струе воды густо рассыпались крупинки платины и ласкали глаз старателей мягким матовым блеском.
— Благодать господня! — сказал Исаия, наблюдая за ловким движением рук, _ выбирающих «интерес».
Когда вошли в казарму, Исаия смерил Макара вопросительным взглядом и, улыбнувшись острой улыбкой, спросил:
— Ну, все в банку?
Яков испуганно поднял брови:
— Ну, штой-то, Исаия Иваныч, подь-ка ты знаешь!
— Да я-то знаю, Яков Елизарыч, да вот сынок у тебя мало, должно быть, смыслит в этом деле.
— Макар! — взмолился Яков. — Ты что это? Опупел, что ли. Да ведь тут верняком — фунта четыре!
— Он думает, я себе беру… Мне, Макар Яковлич, не надо. Ну?!. Говори, сколько в банку? — точно оборвал, строго сказал Исаия. Он плотно сжал губы, держа в одной руке пакет с платиной, а в другой припечатанную банку.
Макар взглянул на отца, потом на штейгера, замялся. Глаза его жадно смотрели на пакет, а тело вздрагивало.
— Ишь ведь, как тебя сердешного, лихоманит! Простудился на платине-то? Они, эти ветряки, портят! Хи-хи, — проговорил Исаия, издеваясь над молодым старателем.
Макар решительно шагнул к Ахезину, выхватил пакет из его рук, рассыпал платину на две кучи на столе и сказал:
— Сыпь, вот это в банку.
— А это? — вкрадчиво протянул Исаия, приподняв брови.
— А это?.. Это я возьму!
— Дело хозяйское, а мое дело стороннее, — также вкрадчиво молвил Ахезин и высыпал одну половину в банку. — А это возьми, хозяин! Тебе полагается: Ахезина знай, что он не лиходей. — Помолчав немного, как будто что-то обдумывая, Ахезин нахлобучил башлык на голову, направился к выходу. — Ну, так до увиданья, прощайте!
Макар остолбенел.
— Исаия Иваныч! Это пошто так?
— Как? — останавливаясь у порога, спросил он.
— А себе?
— Мне не надо, милый. Добро не мое. Я не работал, а если приехал, так это служба моя — за это я жалованьишко получаю, велико ли, мало ли — всё же получаю… Ну, так, до увиданья!
— Нет, стой! — крикнул Макар и схватил Ахезина за рукав, — я так не хочу.
— А как ты желаешь? Ну-ка, скажи!
— А коли так, тогда все в банку!
— Ну-ну, не дури-ка!
— А я не хочу, не желаю. Давай, тятя, банку!
Яков, вытаращив испуганные глаза на сына, спрятал банку за спину и попятился к стене.
— Ты чего? С ума сошел? Не отдам!..
— Отдай, тятя!
— Не отдам. Задави — не отдам.
— Экая ты, бараба! — вмешался Ахезин. — Пустяковый ты человечишко. Ростом большой да широкий, а ум-то петушиный.
— А коли на то пошло… Ну, ладно… Я хочу отблагодарить тебя.
Макар быстрым движением насыпал на ладонь платины и протянул Ахезину.
— На, бери… Не ломайся… Ну?..
— Какой ты ретивый, — сказал Ахезин и, хихикнув, протянул желтую ладонь, согнутую совком.
Скоробогатов высыпал платину.
__ Ну, ладно, как благодарственность приму, — сказал Ахезин и спрятал «подарок» в замшевый мешочек. — Ну, так всего хорошего! До увиданья!
Ахезин вышел. Отец и сын, оставшись одни, молча смотрели друг на друга. Яков мял в горсти бороду, наматывал отделившуюся прядку волос на палец. Потом он перевел взгляд на платину, лежащую на столе. Макар, спокойно ссыпав ее в пакет, положил во внутренний карман пиджака и вышел.
Он остановился на бугре, с которого была видна часть разработок.
В стальном бусе дождя лениво ворочались у станков рабочие. Ходили по узким дорожкам кони, запряженные в двухколесные тележки-таратайки, возили песок к станкам. Звякали бадьи, шуршала галька на лопатах, сердито урчала вода в шлюзах. В сером тумане ненастья прииск казался оторванным куском земли, брошенным в мутную сырую яму.
Мысли Скоробогатова неслись в будущее. «Вот тут построю корпус для паровой машины, а тут поставлю бутару… На вскрышу надо начинать работу, нечего кротами рыться. Бестолочь».
Макар проходил мимо работ и наблюдал за рабочими, и ему казалось, что работают они лениво, часто садятся, вертят цыгарки, подолгу курят и даже при виде его — хозяина — не трогаются с места.
Он чувствовал свое превосходство. Ему казалось, что он крепче стоит на земле… что все — и станки, и люди, и лес, и земля — принадлежит ему.
Рабочие тоже чувствовали, как меж ними и Макаром раскрывается глубокая пропасть. Прежний Макар, словоохотливый, молодой, сильный, простой, становится замкнутым, отчужденным. Некоторые начинали побаиваться «хозяина» — Макара. Только один Смолин относился к нему по-прежнему. Улыбаясь в кудрявый ус и прищуривая один глаз, он сообщал:
— Ребята, «шибко-хозяин» идет.
И чем выше Макар поднимал голову, тем чаще Смолин обращался к нему запросто.
Как-то он сказал с озорной усмешкой:
— Макарша, дай-ка мне на сороковку, смерть охота сегодня напиться!
— Что я тебе за Макарша? — гордо спросил Скоробогатов.
— А кто такой?..
— Знай, с кем говоришь. Не Макарша я тебе, а хозяин!
— Сопляк!
— Чего-о?..
— Сопляк, говорю… Не слыхал, что ли?
Макар готов был броситься на Смолина, избить, прогнать с рудника. Хотелось показать свою силу — силу хозяина, но черный строгий взгляд забойщика смутил его. Потерять Смолина значило лишиться опытного забойщика. Сам он уже давно не работал — вел приисковое хозяйство, а Яков в своей синей суконной поддевке бестолково ходил от станка к станку, закинув руки назад и скаля зубы на работниц. Заходил в казарму, там прикладывался к четвертине, а к вечеру, напившись, уезжал на Глубокий.
В этот день под вечер с Глубокого приехал Ефимка. Промокший до нитки, сидя у раскаленной печки, он таинственно сообщил:
— Исаию Ивановича я седни видел — платину прятал он!
— Где? Куда прятал?
— В оглобли!
Рабочие, недоумевая, улыбнулись, а Ефимка, чтобы убедить их, торопливо перекрестился.
— Пра, и-богу, в оглобли!
— Да ну, не божись, в долг поверим! — сердито проговорил Смолин.
— Верно… Еду я по дороге, возле Каменки…
— И все у Каменки видит! Медведя — возле Каменки, оленя — возле Каменки.
— А мне больно нужно, — обиженно сказал Ефимка и смолк.
— Ну, ну, рассказывай, где, как ты его видел?
— Ну… — уж не так охотно начал Ефимка: — еду я, да до ветру захотел… слез с лошади, привязал да и сел под елку.
— А комары? — смеясь, спросили рабочие.
— Ничего, кусаются… только слышу, сзади меня кто-то возится.
— Ты опять, поди, думал медведь?..
— Ага!.. Я посмотрел, а там Ахезин… Заехал он в ельник, в густящий! Оглобли у него с дырками, где их в гужи-то закладывают.
— Ну?..
— Ну, он и засунул в них желтые мешочки, а дыры деревяжками заделал да грязью их замазал, а потом… Это, как ее… Выпятил лошадь — сел да и поехал… Да и запел — жалобно, по-божественному.
В праздничные дни Скоробогатовы уезжали с прииска и в своей казарме оставляли дневать Ефимку. В это время мальчуган чувствовал себя полным хозяином. С утра он принимался за обиход. Деловито сопя, растаскивал вещи по углам, подметал и заготовлял к ночи дрова, а вечером зажигал керосиновую лампу и, достав из-под застрехи книжку, садился читать. Книжки он брал на прииске Глубоком у машиниста Михаила Ивановича Лопатина.
Тихо подкрадывался вечер. Синие шиханы гор тускнели, сливались с завесой ночи. В густом простенке леса, позади казармы, замолкали пичужки, и лес точно сдвигался. Мальчик следил за этим, чувствуя свое одиночество. Ему казалось, что он заброшен в глухую тайгу. Чтобы отогнать тоскливую жуть, он затворял дверь избы на палку, брал книжку и читал громко.