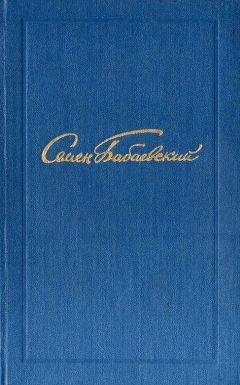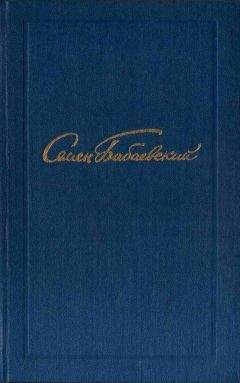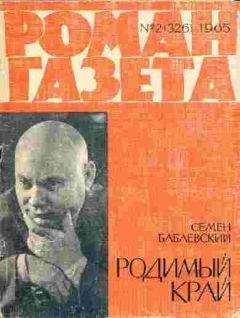«Как же вы, мамо, обидели меня и Надю, а больше всех Катю и маленького Юрика, что не приехали к нам, — читала Елизавета. — Пожили бы у нас, погостили. Мы так ждали вас и сейчас все еще ждем…»
— Ждут? — переспросила мать, вытирая платочком улыбающиеся губы. — Хорошо, когда тебя дети ждут…
— Слушайте, мамо, дальше, а то я спешу…
— Спешишь? Зараз все спешат… Ну, ну, читай.
«И знаю я, что вы найдете отговорку и скажете, что работа не позволяет, что не на кого оставить телят… Но кто вам, мамо, дороже, дети ваши, внуки ваши или телята?» Слышите, мамо? Кто вам дороже? — Елизавета подняла на мать смеющиеся глаза. — Это Антоша спрашивает. Отвечайте!
— Ой, какой же Антоша дурной! — Мать улыбалась, показывая в нижних зубах щербину. — И уже большой Антоша, и грамотный, и сам давно стал батьком, а все такой же, как то малое дите…
— Слушайте дальше, мамо… Вот… «Пора вам, мамо, бросать работу, пора и отдохнуть. Сколько у вас детей, и неужели мы вас не прокормим? У нас, у ваших сынов и дочек, крылья крепкие и сильные, и мы посадим вас, мамо, на свои крылья и унесем, как Иванушку уносили гуси-лебеди, помните, в той сказке, что вы нам рассказывали, когда мы еще были детьми…»
— «Когда мы еще были детьми», — грустно повторила мать. — Посадим на свои крылья… И такое придумал Антоша… А что пишет Игнат?
Елизавета взяла письмо Игната и начала читать. Игнат передавал поклоны матери, брату Илье и сестренке Лизе. Затем описывал свою поездку по отарам. Мать слушала, склонив набок голову. От отар Игнат перешел к детям — Гале и Вале. Такие у него славные девочки-близнецы! И тоже просил мать приехать в гости и повидать его жену Нюру, с которой мать еще не была знакома, и уже подросших внучек.
— И Игнат зовет к себе…
— Радуйтесь, мамо.
— Я и радуюсь… А что пишет Ольга?
Елизавета нехотя взяла письмо Ольги и стала читать в середине:
— «…все одно, мамо, моя молодая жизнь загублена, а Лева — человек хороший, и вы меня за него не ругайте… Приезжайте, познакомьтесь с Левой, верю, мамо, он вам понравится…»
— Ну, иди, Лизавета, иди, дочка, — сказала Евдокия Ильинична. — Вечерком я сама почитаю… Зараз у меня есть очки.
Елизавета повертелась перед зеркалом, закинула косы за плечи и ушла… Ну вот, теперь и нам можно переступить порог. Евдокия Ильинична посмотрела приветливо и удивленно: не ждала гостей. Улыбалась своей доброй, стеснительной улыбкой, не зная, что сказать. Женщина она гостеприимная, сердце у нее отзывчивое. Правда, ей немного совестно оттого, что ее хатенка из двух комнат неказиста, тесна; что оконца малы и подслеповаты, как у старухи глаза, и что нет в хате красивого убранства. Но что поделаешь? Гости, думает она, поймут, что в этом не ее вина, и не осудят. И по озабоченным глазам, по хлопотам вы уже догадались, что приход ваш хозяйку и взволновал и обрадовал. Почему? Так уж издавна принято на Кубани — всякому гостю в доме рады. Она усадила вас за стол, принесла крынку молока, стаканы. Крынка пузатая, горлышко обливное. Посудина явилась на стол из погребка, и вы, конечно, заметили на ее глиняных боках седую испарину. Евдокия Ильинична не спрашивает, кто вы, откуда и по какому делу пришли. Наливает в стаканы молоко и говорит своим тихим, приятным голосом:
— Пейте, люди добрые, пейте замест воды… Вода у нас вон, за окном. Но мы пьем молоко. Чего, чего, а этого добра хватает… И на ферме молоко есть, да и у меня своя корова покамест еще имеется…
И пока вы пьете прохладное, сладкое и пахнущее травой и погребом молоко, Евдокия Ильинична неторопливо, с заметной грустинкой в голосе поведает вам о том, что тропа от порога ее хаты пролегла давным-давно. «Все ж таки когда? — не терпится вам узнать поточнее. — Как давно? Может, пять, может, десять лет?» — «Ой, что вы, нет, это было еще раньше. — Евдокия Ильинична улыбается щербатым ртом, концом косынки прикрывает шершавые, в паутине морщинок губы. — Лежит та дороженька еще с той поры, когда по весне мы с Иваном обручились… А зачем вам понадобилась та стежка? Может, что не так у нас в колхозе или на ферме? Может, что плохое приключилось?.. Я что-то никак не могу уразуметь…»
Вы только подумали, как же, оказывается, давно это было, а Евдокия Ильинична с ее робкой улыбкой уже отошла, пропала, и на ее месте тотчас возникла та незнакомая вам девушка, что весной, когда цвели акации и бушевали вешние воды, стала женой Ивана Голубкова; что не эта пожилая женщина с добрыми глазами, а та давняя молодайка, протоптала первый след теперешней тропы, протоптала молодыми да резвыми ногами, умевшими и гопака сплясать, и пройтись так по хутору, что залюбуешься!
Бывало, в лунную ночь ходили по тропе вдвоем. Дуся — впереди, Иван — следом. Тропа вела к лесу. Гуляли на виду у хутора. Иван обнимал свою черноокую, и месяц, что повис над водой, светил только им и только им заглядывал в очи… Эх, где тот месяц, где та ноченька и где Иван? Есть ноченька, да не та, есть и месяц над хутором, да не тот… А Ивана и вовсе нет. Давненько Иван не навещал свою хату. Ушел, покинул и хату, и жену с детьми. Времени прошло достаточно, дети выросли, народились внуки. Пора бы, как поется в песне, и позарастать стежкам-дорожкам… А стежка не зарастала, все так же тянулась и тянулась по траве да по бурьяну, и не смывали ее дожди, не засыпали снега… Одна, без мужа, Евдокия топтала тропу почти тридцать годков — немало! Это тем из нас, кто не ходил по этому следу, легко сказать: одна, без мужа, и почти тридцать годков!.. Сколько побито чоботов и сколько изношено полусапожек! Да разве в обуви дело? А сколько выплакано слез, скрытых от людей и от своих детишек? Сколько скопилось в груди горя? Не счесть, ибо как же слезы и горе сосчитать, как измерить, когда на земле, оказывается, еще нету такой посуды и таких весов, чтоб можно было собрать в одно место все женские слезы и все горе и положить их на эти весы…
Неслись, шумели годы, как несется и шумит под окнами Кубань в разливе… Еще задолго до всполоха зари спешила по тропе Евдокия Ильинична, в полдень возвращалась в хату, чтоб управиться по хозяйству, пообедать, накормить детей, затем снова ноги ее бежали по ухоженному следу, а вечером, в темноте, бежали обратно, и так не день, не месяц. Все извилинки, все бугорки и ярочки были ей знакомы — не видела их, а чуяла ногами. Так, для любопытства, завяжите Евдокии Ильиничне глаза, как их завязывают платком, когда играют в жмурки, и она смело, не качнувшись в сторону, не замедляя шага, пройдет от порога до арки.
Присмотримся к Евдокии Ильиничне, к ее лицу, к ее одежде, и присмотримся попристальнее. Сделаем это так, чтобы наш внимательный взгляд она не замечала и не краснела, не стеснялась. Пусть угощает вас молоком, и пусть в глазах ее светится та безыскусная теплота, какая не приобретается, а дается человеку только самой природой. Или пусть стоит, сунув руки под фартук… Руки у нее рабочие, некрасивые, пальцы в загрубевших мозолях. И прячет она руки не потому, что совестится показать, а потому, что это издавна стало ее привычкой. Кофточка и юбка на ней из серенького, под цвет перепелки, ситчика. В мочках ушей сережки со светлыми, как слюда, камешками. Сережки подарил не Иван, а учитель Семей Маслюков, и подарил тогда, когда Евдокия уже была замужем. В сережках хранилась память о близком и любимом человеке, и они, как две крупные слезы, всегда липли к ушам и молодили ее.
Как-то она говорила мне: «Ни мои дети, ни Иван, ни хуторяне, никто, кроме тебя, не знает, откуда у меня эти сережки. И я прошу тебя: все, все порасскажи людям обо мне. Расскажи, как я росла у батька, о детях моих, об Иване, о Семене, и даже опиши вот эти сережки, какие они красивые. А только, ради бога, прошу тебя, умолчи о том, что у меня было с Семеном Маслюковым. Я и теперь еще не знаю: может, то был великий мой грех, а может, самое великое мое счастье, но только знать об этом никому не следует… Зародилась та радостная тайна в моем сердце, в нем она пусть и умрет». — «А если будет трудно умолчать?» — спросил я. «Ну, ежели трудно будет, тогда поступай как знаешь. Случай давно прошедший, может, и нет нужды хранить тайну…»
Была Евдокия стройна и по-девичьи тонка в талии и выглядела намного моложе своих пятидесяти трех лет. Все она, как та груша-тонковетка в октябре: все та же стройность, а только лист укрыл желтизной. Когда-то черную, может быть, даже чернее грачиного крыла, косу время слегка завьюжило сединой, а вот брови какими были в молодости смолистыми, такими и остались, только сделались гуще и пушистее. И на левой брови все так же лепилась родинка.
Даже сквозь осеннее увядание проступали черты той редкой женской красоты, какую не так-то часто встретишь даже у нас, в верховье Кубани. В ее смуглом лице еще и теперь хранилась поразительная смесь дородства кубанской казачки и черкешенки. Может, и не зря злые языки говорили о том, что отцом красавицы Дуняшки был будто бы не Илья Шаповалов, богатый казак из станицы Трактовой, а черкес Абубекир из соседнего аула Псауче Дахе. Узнав о сплетне, Илья Шаповалов объявил на станичном сходе, что, если он услышит еще хоть одно слово, позорящее его, Шаповалова, имя, тому не жить на свете. Приутихли казачки. Тихо, между собой, посудачили и умолкли.