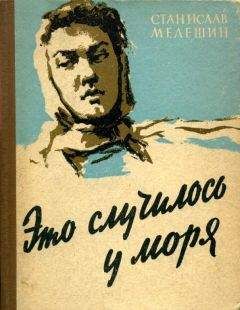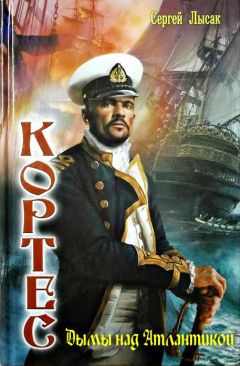Василий был свидетелем резни, набегов, расстрелов, боев на станичной улице, его ужасали все эти убийства и похороны. Своим мальчишеским умом он понимал, что люди дерутся насмерть не из-за пустяка, а за кровное: землю и равенство, что эта война богатеев и бедняков, и все-таки, по-его, было бы справедливее собраться всем казакам на миру по всем станицам и поделить степь по совести, поровну, без огня и смертоубийства.
Теперь поутихло, все страшное кончилось, земля по-прежнему рожает хлеба, если к ней приложить руки, только жалко убиенных.
Иногда утрами, разглядывая станицу с холма, Василий считал избы, базы, постройки и угодья, огороды и пашни, у кого больше, кто богаче, у кого сколько душ с работниками вместе, и коней и прочей живности, и уже окрепшим умом приходил к мысли, что, хотя сейчас в станице новая власть — победили красные и земля поделена, — это война не всех уровняла, что мир устроен не так, как ему хотелось бы, он чувствовал, что тревога затаенно все еще дышит в его станице.
Им с матерью того, что давала земля, хватало лишь от осени до весны. Надо бы сменить конягу на молодого, обновить дом и сараюшки, и хотя бы добавить еще угол земли для сада, да еще сменить покос на ближний и лучший, да выменять бы на товар натурой однолемешный плуг, заменив разбитую соху, да не мешало бы распахать немного пустоши под овес…
Тогда можно не только вздохнуть свободнее, а и жениться. Хорошо бы ввести в дом молодую хозяйку, чтоб жить покрепче и робить повеселей. Да и то, пора уж. Не зря в последнее время стали сниться Василию занятные сны.
Вот, к примеру! Словно пошел он к зажиточному мужику Кривобокову, бывшему есаулу, сватать Евдокию, что жила полувдовой снохой в его доме, управляя хозяйством. Во сне-то все так славно получается. Пришел, да и обнялись, как богом нареченная пара, Евдокия — к свекру: отпустил бы ты, батюшка, нас своим двором жить. Кривобоков аж покраснел от натуги. Отказал, как отрезал, скривился весь, зашелся в крике, взмахнул нагайкой:
— Да ты что, блаженный, моего сына Михайлу заживо похоронил?! Вернется он! Вон внук-от его. Ты на богачество мое позарился, голь перекатная! Ай, и ты, Евдоха, лошадь глазастая, рада?
Выгнал он Василия, а ее вытянул по заду нагайкой — во сне. Это во сне, а наяву Василий только издали видел ее. Стоит Евдокия перед глазами все время, улыбается, как при встрече, краснеет, потупившись, да красоту платком прикрывает, словно дразнит.
Раз только и полюбовались друг дружкой, осенью в прошлом годе. Ломала рябину у окна — ягод полное сито, помог ей спуститься с лесенки, на руки взял, поставил на землю, да так и остались они стоять грудь в грудь, не разнимая рук, пылали оба, любуясь друг дружкой, а глазами шептали: «Обнимемся?!» Дрожали руки ее, это он хорошо чувствовал, отняла нехотя да и пошла, опустив голову… И то правда, муженек ее Михайла — дутовец в бегах, может, жив, хоронится в банде какой — много их шастает в округе по степным балкам да березнякам.
…Василий вздохнул, оглянулся на лошадь — она ржала — и увидел гарцующих всадников, словно его догоняли. Разглядел их в ремнях с винтовками — это были бойцы из красного эскадрона.
Они шли наметом, по трое в ряд, кони отцокивали копытами по твердой, как железо, трактовой дороге, и не было пыли.
Первым, оседлав коня, поравнялся с ним командир, в бескозырке и черной старой кожанке, знакомый Василию, станичная гроза, Матвей Жемчужный.
Он сидел на тонконогом скакуне тяжело, кулем, не по-казачьи. Откинув свое крупное рыхлое тело, натягивал поводом лошадиную морду вверх, и, крепко обхватив ногами, словно клещами, пузо коня, выдыхал, успокаивая его и себя:
— Тиш-ша! Тиш-ша!
Лицо Жемчужного, круглое и сплошь рябое, с желтыми, цвета соломы бровями, чубом и усами, улыбалось, светилось на солнце и было похоже на подсолнух. А узкие глаза выглядывали из-под бровей цепко и настороженно.
Попридержав коня, он сунул плеточку в голенище сапога и, протянув руку, усталым басом поздоровался:
— Ну, здравствуй, Оглоблин! Тиш-ша!
Василий пожал горячую командирскую руку, потряс, ответил с улыбкой:
— Ну, здравствуйте. Далеко вы?
Жемчужный прищурился, отчего лицо его стало еще круглее, приподнял улыбкой один ус, кивнул в степную, даль.
— Что, робить по сено пошел?
— Косить.
— Ну, ну… Дождей давно нет. Жара. Хлеба-то так я прут!
Лицо его лоснилось, пот из-под козырки скатывался по красным щекам светлыми полосками и застревал на кончиках усов каплями, в которых блестело по солнцу. Нагнулся:
— А не боишься бандитов — один? Смотри, украдут с лошадью, уведут, убьют.
Василий перекинул косу на другое плечо, оглядел молчаливые, суровые лица бойцов, кашлянул:
— Каждый день хожу… Меня не тронут. Я никому ничего не сделал.
Жемчужный усмехнулся:
— Значит, никому ничего, говоришь? Хм… Ну, а если тронут тебя? Если тронут? Все отберут? Ти-ш-ша! Землю отберут?! А?! Ту, что была, и ту, что Советская власть наделила? В батраки пойдешь?
Василий снова кашлянул, недоумевая, куда это гнет матрос, растерялся:
— В батраки… Нет уж! И землю не отдам… — Кивнул на степь: — Наша она, навечно. А чтоб никто не мешал, на то вы поставлены. Вы — войска, с конями, в оружиях… Я так понимаю. А мы паши знай да сей!
Жемчужный вздохнул и грустно покачал головой:
— Паши да сей… Ну, а ты кто такой? Как ты о себе понимаешь?
— Да вроде бы… батя казаком был. Стало быть, я казака сын.
Жемчужный поморщился, оглянулся на бойцов, словно желая прочесть на их лицах: удачно или нет проходит политбеседа с представителем трудового казачества, кивнул им:
— Кури, братва! — и с сожалением сказал Василию:
— Вот оно и видно, по мозгам-то, сынок, ты еще пока Оглоблин.
Василий не понимал: шутит, задирает или смеется над ним Жемчужный. Обиделся:
— С меня хватит! Тоже, чать, навидался всего по самую макушку. Так уж будьте уверены, гражданин дядя Матвей, я в обиду себя не дам!
Жемчужный раздвинул улыбкой усы, подбодрил:
— Ну-ну! Аника-воин! Стрелять-то хоть умеешь?
Бойцы на конях дымили махоркой, и было похоже, что кони исходят паром. Жемчужный снова обернулся к ним и подмигнул, мол, полюбопытствуйте:
— Ну-ка, казак Оглоблин, держи!
Вынул из коробки маузер, подал Василию за дуло и оглядел небо.
Громадное и синее, заполненное солнечными лучами и степными утренними звуками небо держало в себе одинокое облако, чуть покачивая его над разноцветной лентой колышущегося марева зноя. Из-под облака выпархивали точками птицы и кувыркались в теплом небе.
Над всадниками сторожко плыл коршун.
Василий вертел в руках тяжелое стальное оружие и глядел на Жемчужного. Тот приказал, кивнув в небо:
— Хлопни разбойника!
Василий вскинул руку.
Коршун тяжелой тряпкой провалился в ковыль.
Бойцы одобрительно заулыбались, заговорили, закашлялись от дыма.
Жемчужный принял маузер, крякнул, натянул поводья.
— Вот это по-нашему! Вот так нужно за землю и волю! Верю: за себя постоишь! Все же смотри, осторожным будь. Да и мы тебя побережем!
Жемчужный взмахнул рукой, тронул коня, гикнул. Отряд поскакал за ним рысью, донесся каменный топот, поднялось пыльное золотое облако — скрылись в нем.
Василий долго, чему-то радуясь, смотрел им вслед, вслед золотому облаку, которое они словно катили по тракту все дальше и дальше до синей полоски горизонта. Оно уменьшалось, долго еще мельтешило там, подскакивало в мареве, пока не растворилось в палевом небе.
Хотелось бы и ему, Василию, скакать по степям на хорошем коне, с винтовкой, вместе со всеми и ничего не бояться рядом с громадным дядькой Жемчужным.
Конечно, не беречь его, Василия, на сенокосе они поскакали, а в разведку, выслеживать бандитов, что тревожат округу звериными налетами на станицы, пожарами, убийствами и грабежами. Он вспомнил сон, Евдокию, и мстительная мысль пришла ему в голову. Может, добудут они ее мужа, пропавшего Михайлу Кривобокова, или убьют в перестрелке, и представил себе ярко, как везут или ведут этого бандита, связанного веревками, побитого и злобного, как волка.
А пока Михайла на свободе, и от этой мысли вошла в душу какая-то щемящая боль, засела в сердце тревогой на будущие дни, ожиданием неясной непоправимой беды. В глазах маячили кони и улыбающееся лицо Жемчужного, похожее на подсолнух, и слышался его предостерегающий насмешливый голос: «Уведут, убьют…»
Так он и дался! И лошадь не отдаст никому за здорово живешь!
Ему стало как-то неуютно на душе еще и оттого, что идет он на далекий покос одиноким и не догадался взять с собой отцовский карабин на всякий случай.
…Он косил до полдня, до той поры, когда и облака и солнце недвижно висят над головой в густом, тяжелом и горячем воздухе, а душные травы струят медовое тепло, дурманят голову, и над всей этой покойной яркой пестротой въедливо и нудно гудит ошалелая невидимая пчела.