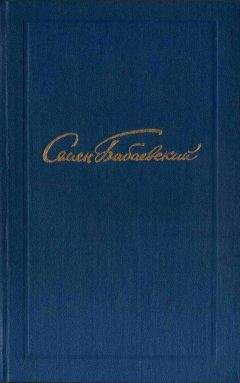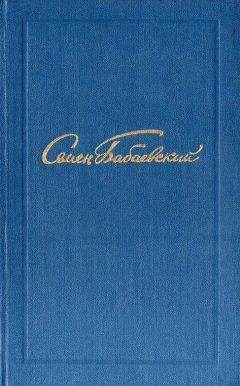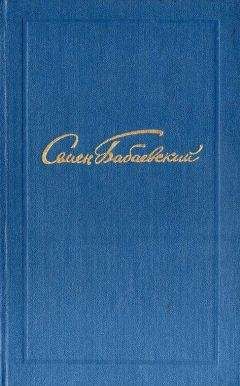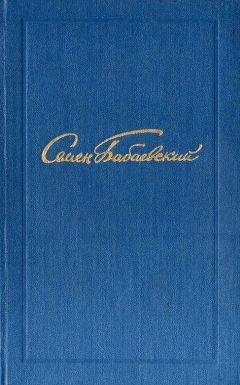— Чтобы перевезти их в Береговой.
— И без твоего драндулета обойдемся. В Береговой Алексей Фомич прилетит на «Чайке»! Понял?
— Велено, значит, надо ехать.
— Вот что, Антон Алексеевич, — тоном, не терпящим возражений, заговорил Чижов. — Я уже побывал в доме и видел мебель. Кому ты купил этот ширпотреб?
— Известно кому… Отцу и матери.
— Отцу? Смешно! — Чижов нехотя усмехнулся. — Это же не мебель, а черт знает что такое!
— К сожалению, в Береговом спальные гарнитуры не продаются.
— Не надо было торопиться, — сказал Чижов. — В Южном или в другом городе нашли бы и настоящие кровати, и настоящие стулья… А теперь? Да знаешь ли ты, что скажет Алексей Фомич?
— Ничего плохого он не скажет. Кровати хорошие, сетки мягкие. Что еще?
— Может, они и хорошие, только не для твоего отца. Понял? Сыну полагается знать, что Алексей Фомич Холмов — человек исключительный, необыкновенный.
— Сделали его и необыкновенным и исключительным, — сказал Антон, исподлобья глядя на Чижова. — Ведь был же он обыкновенным, как все.
— Эх, Антон, Антон, видно, плохо ты знаешь своего родителя! — Чижов взял Антона под руку и повел к роднику. — Посидим вот здесь, возле ивы. И, может быть, то, что я тебе сейчас расскажу, я обязан был рассказать раньше. Может быть, то, что ты услышишь от меня, пригодится тебе в жизни.
— Что ж, слушаю.
— Случилось так, что еще студентом четвертого курса педтехникума я попал прямо на фронт, — заговорил Чижов, старательно раскуривая папиросу. — И там, на передовой позиции, видно, самой судьбой было велено мне встретиться с Алексеем Фомичом Холмовым, твоим, Антон, отцом. Он уже тогда носил ромбу в петлицах, а позже — генеральские погоны, а для меня он был просто человеком, но каким человеком! Таким он для меня остался и после войны, все эти годы, что я с ним работал. Вот ты его сын родной… А известно ли тебе, как Алексей Фомич умеет поднимать дух у людей, как умеет проникнуть в их души? Нет? А мне-то известно! Я всегда был рядом с ним — и на войне, и в мирное время. Жили и в окопах, и на полевых станах, ночевали и в домах колхозников, и на квартирах секретарей райкомов. Со всеми Алексей Фомич был одинаково строг и справедлив. И храбрости ему у других не занимать — своей хватает. Помню, в бою за одну высоту погиб комбат Стрельников. Было это под Минском. Мы с Алексеем Фомичом как раз находились в том батальоне. Алексей Фомич принял на себя командование, повел батальон в бой, и высота была взята. В том бою он получил ранение в голову. Через то до сих пор жалуется на боль в затылке. Особенно плохо ему перед непогодой и в дождь… Уже в мирное время мы как-то ночью приехали в Степаковский район. Лето, на полях страда. Заходим в райком. В кабинете собрался народ. Накурено, духота: идет заседание, Алексей Фомич появился в дверях, обвел взглядом заседавших и сказал: «Заседаете? Курите? А кто хлеб убирать будет? Холмов, да?» И ушел. В райкоме переполох. Мы в машину — и на поля. Те, кто заседал, тоже вскочили в машины — следом за нами. Всю ночь Алексей Фомич ездил по бригадам и организовывал ночную косовицу. Утром, уставший, свалился прямо на валок пшеницы и уснул. Рядом с ним отдыхал и секретарь райкома.
— Значит, на валке пшеницы спать мог, а на железной кровати не сможет? — с ухмылкой спросил Антон.
— Э! Валок в степи — другое дело! Это, если хочешь знать, романтика! Ну, Алексей Фомич поднялся, отряхнул с себя остья, — продолжал Чижов, — обнял секретаря райкома и сказал: «Пойми, Аким Павлович, в такую жаркую пору грешно тратить время на заседания. Где должен быть руководитель в страду?» — «В поле, Алексей Фомич, на полевом стане». — «Вот это ты сказал правду».
— Не понимаю, что тут такого?
— И плохо, что не понимаешь. — Чижов обиделся. — Да хотя бы то, что у Алексея Фомича отношение к людям было простое, но и без тени панибратства. Меня на народе он всегда называл «товарищ Чижов». И на «вы». «Вы, товарищ Чижов». А когда остаемся одни, то мы равные, и он говорит мне Виктор или Витя. По-простому. Когда же случается какой успех по хлебу, мясу или молоку, то называл меня Виктор — с ударением. «Виктория, говорит, по-иностранному победа, а Виктор — от того же победного слова, и сейчас упомянуть твое имя как раз кстати…» Шутник, ей-ей! А слушал ли ты его переклички по радио? Не приходилось? Ну, понятно, ты занят виноделием, а переклички шли по хлебу и по мясу… Так это же какой собирался форум! Разом, как на одном огромном собрании, разговаривало все Прикубанье, а Алексей Фомич сидел в своем кабинете и направлял разговор по нужному руслу. Где вставлял острое словцо или спрашивал, а где подбрасывал шутку. Ему всегда горячо аплодировали. Не кланялся, как артист, а стоял на трибуне, поглаживал свою белую голову, улыбался. Руку поднимал: дескать, поаплодировали — и хватит, дайте и мне слово сказать. И все у него получалось просто, от полноты душевных чувств. Когда мы садились в машину и ехали домой, он говорил: «Запомни, Виктор, эти почести оказаны не мне. В них есть народное признание авторитета партийного руководителя вообще. Я же всего лишь рядовой солдат партии». Часто читал стихи или напевал песенку. Любил и песни и стихи.
«Что-то он говорит об отце как о покойнике, все в прошедшем времени, — слушая Чижова, думал Антон. — Все был да было, но ведь отец же еще есть? Странно выглядит весь этот рассказ, и к чему он его завел?..»
— А знаешь ли ты, Алексеич, как твой отец играл на баяне? Нет, не улыбайся и ничего не говори, потому что этого ты не знаешь. А я-то знаю! У него исключительный музыкальный дар. Твоя мать, Ольга Андреевна, не разрешала ему играть дома, боялась за его авторитет. Неудобно, считала, чтобы такой большой человек играл на баяне. И была она неправа. Твоя мать не понимала, что простота и скромность, широта натуры и сердечность всегда рядом. Алексей Фомич вынужден был хранить баян в домике на нашем пригородном хозяйстве. Иногда мы туда заезжали. Он садился на скамейку, брал баян и играл. А как он играл! Мечта! Я сижу, слушаю, а в душе у меня восторг. Особенно играл с чувством, когда был в хорошем настроении или чуть под хмельком. Любил выпить в меру. Правда, теперь из-за головной боли совсем не пьет.
— Не знаю, Виктор Михайлович, с хорошей или с плохой стороны характеризует моего отца все то, что ты о нем сказал, — заговорил все время молчавший Антон, — но одно для меня очевидно: отец мой не такой, каким ты его нарисовал.
— Почему не такой? — Чижов удивился. — Потому, что ты давно с ним не живешь! С той поры, как уехал в институт.
— Зря ты так превозносил его и так расхваливал, — говорил Антон своим тихим, спокойным голосом. — Ведь отец мой тебе только кажется необыкновенным. Ты придумал его себе таким, вот в чем беда.
— Смешно!
— Не смешно, а грустно… На самом деле — и тебе это тоже известно — мой отец — человек как человек. — Антон с улыбкой посмотрел на Чижова. — А если что-то «необычное» и появилось в его характере, так оно, это «что-то», пришло к нему потому, что многие годы он находился не в обычном положении.
— И что же из того?
— А то, что теперь-то он будет находиться в положении обычном, как все люди, и жить рядом с людьми обычными. — Опять у Антона появилась та же легкая улыбка на лице. — И я могу поручиться, что никто, в том числе и ты, его верный помощник, ничего необычного в нем не увидит. И уверен, что и железные кровати ему понравятся, и неказистый стол и обычные стулья он примет с благодарностью. Вот только жаль, что не смог купить холодильник. Климат у нас жаркий.
— Холодильник доставим из Южного, — уверенно сказал Чижов.
— На крайний случай отдам свой. Он у меня еще новый. А мы с Анютой пока обойдемся, у нас ведь есть погребок.
— Зачем же обходиться погребком? Считай, что холодильник уже стоит в этом домике, — с той же уверенностью заявил Чижов. — Так ты что? Тоже собираешься ехать в Южный?
— Обязательно, — ответил Антон. — Я считаю, мать поступает правильно, что не надеется на чужие машины и хочет, чтобы я увез их в Береговой на своей старенькой «Победе». Я поеду и привезу. Одно только меня тревожит…
— Что именно?
— Без привычки отец загрустит, затоскует в Береговом.
— Вот нам и надлежит его новую жизнь обставить так, чтобы он не затосковал, — живо сказал Чижов. — Хоть с этим-то ты, надеюсь, согласен?
Антон промолчал.
Весна в 1961 году на Прикубанье была ранняя, и акация в Южном зацвела уже в середине мая. Цвела буйно, и запахи ее, особенно в жару перед дождем, были ни с чем не сравнимы. Парило с утра, воздух был горяч, и сладковатый аромат акации устойчиво держался над городом. На западе клубились тучи, черные, со свинцовым отливом. Гремела гроза, по-летнему раскатисто и тревожно. Ветер поднимал столбы пыли, кружил и гнал их, а потом налетал ливень такой силы, что над асфальтом, над жестяными крышами дымилась водяная пыль, а сбитые лепестки, как снежинки, липли к мокрым камням. Свинцово-черная туча ползла и ползла через Южный, поливала, медленно удаляясь в степь и вставая там черным заслоном. Далеко в степи еще угрожающе громыхал гром и молния крест-накрест чертила иссиня-черную тучу, а над мокрым городом в просветы между тучами, как в раскрытые окна, уже смотрело солнце, жаркое, веселое, — хотело убедиться, хорошо ли умыты улицы, дома, посвежели ли деревья, помолодела ли земля.