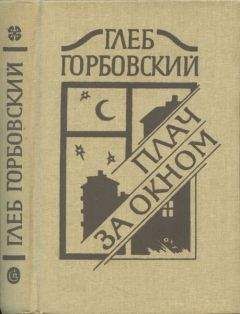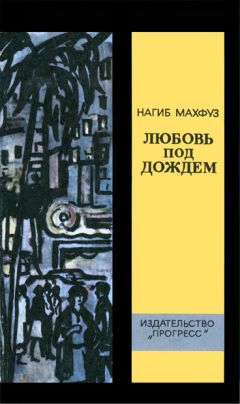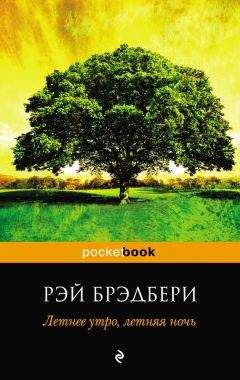Склонившись как можно ближе к лицу Олимпиады Ивановны и боясь коснуться этого лица, Парамоша вдруг уловил не дыхание, нет, что-то менее ощутимое, словно Олимпиадиной мысли коснулся, мысли, вставшей над миром, будто травинка, щекотнувшая Парамошину душу неизбывным теплом жизни.
«Живая!»— пронеслось по всему напрягшемуся существу Парамоши: по возликовавшим костям, коже, нервам, сосудам. «Живая все-таки. Ну молодец, бабка! Ну умница!»
И, действительно, лицо у старушки было теплым. Даже кончик ее огромного, восхитительно явственного носа не остыл!
Парамоша долго звал ее по имени, тормошил, массировал старушке грудь возле сердца. Он еще никогда не наблюдал в человеке такого глубокого забытья.
Проснулась баба Липа не от Парамошиных восклицаний и тормошений, — смешно сказать, от бездушного скрипа одной из половиц! Парамоша, отчаявшись добудиться хозяйки, в бессилии отпрянул от кровати, и тут одна из половиц издала неприятный пронзительный ультразвук, похожий на утиный кряк. И Курочкина встрепенулась, зачмокав беззубым ртом. Парамоша метнулся к выключателю. В «зале* вспыхнула единственная в доме лампочка, озарившая спальный закуток Олимпиады Ивановны высевками света, прошедшими сквозь зеленоватую тряпицу отгородки.
— Олимпиада Ивановна… — оторопело зашептал себе под нос Парамоша. — Что это с вами?
— Господи Сусе… — подала голос бабуля.^- Сынок, ты, што ли, Васенька? Али стряслось чаво?
— Да нет… Напугали вы меня опять.
— Кричала небось?
— Наоборот. Мне показалось, что вы того… — Парамоша не знал, что сказать. Видок у него был дурацкий: бородка и волосы на голове всклокочены, большие черные трусы вот-вот упадут к ногам. — Мне показалось, что вы…
— Померла, что ли? Да хучь бы и так.
— Едва добудился.
— Спужала, окаянная, парня! Да нешто мне сделается чаво? Этто я травки сонной глонула, как лечь… Вот и сморило.
И вдруг, перемогая комнатный электрический свет, в окне заиграл свет наружный. Однако не утренний, рассветный, а как бы всполохи зарниц. Только не дальние, а словно под окном где-то.
— Што бы так? — заподнимала голову от подушки Олимпиада, с трудом отклеиваясь от постели. — Батюшки, да никак горим?!
…К пылавшему сараю Парамоша примчался первым, успев занырнуть в сапоги, и так, оставаясь без штанов и рубахи, в одних трусах приступил к тушению пожара, а если честно — к смотрению на огонь. Тушить пожар было нечем.
Небо ночью прояснилось, воздух настыл, и на дворе подмораживало. Парамоша приплясывал, подставляя дыханию огня то спину, то грудь. Пышущее жаром строеньице занялось скорее всего изнутри, горел в основном верх сарая — стропила и остатки дранчатой кровли, еще до пожара траченной временем, его снегами, дождями, ветрами.
Вот и сейчас ветер, не слишком напористый и все же явственный, отжимал помаленьку огонь от сарая в сторону деревни, упирался горячим лбом в запертый домок Софронихи.
«А ведь там, у Софронихи, — смекал Парамоша, — если туристы не переиграли, дорогостоящая вещь в чулане томится». И тут же забыл про иконку, потому что сарай выплюнул огненный уголек, угодивший Парамоше в голову, затрещавшую палеными волосами. Пришлось отмахиваться от уголька, будто от разъяренной пчелы.
Парамоша засуетился, не давая огню перепрыгнуть с крыши сарая на пристройки дома, крытого шифером, теперь почерневшим и замшелым, но, слава богу, равнодушным к огню.
Притащился Сохатый с ведром воды. Парамоша выплеснул воду на ствол ближайшей к сараю антоновки, еще увешанной плодами, листва которой почти вся облетела, а необлетевшая время от времени вспыхивала прямо на дереве, будто новогодние фонарики. Пеклись, сочась, яблоки, лопалась на них кожура и закипал сок.
Парамоша бросился с ведром к колодцу и на тропе вновь столкнулся с Сохатым. У того в руках поблескивал топор. Когда Парамоша пробегал мимо лесниковой баньки, его облаял петух. Черный, с налившимся кровью глазом стоял он, как на лобном месте, на колоде, глядя в огонь, топчась и помахивая крыльями, и время от времени то ли кашлял, то ли действительно лаял, отрыгивая звуки, словно индюк.
Последним на огонь вынесся полковник Смурыгин. На плече у него балансировал настоящий багор, и это уже было что-то. Попробовали растаскивать жиденькую сараюшку на дрова и тем самым только помогли огню: что-то рухнуло, с треском поехало, сгруппировалось в кучу и тут же занялось еще сильнее. Пока пинали багром сарайку, зевнули еще одно сооружение: как-то разом, будто керосином облитая, вспыхнула покосившаяся будочка, торчавшая на огороде меж сараем и хлевом Софронихи. Предоставив огню доедать скелет сарая, кинулись валить наземь уборную, отволакивать горящие, снизу подгнившие доски в глубь огорода — подальше от избы.
Пришлось Парамоше со ржавыми граблями на крышу коровника взгромоздиться и сгребать этими граблями залетные угольки и трескучие головешки.
Тягались с огнем от души. Солома, покрывавшая хлев и превратившаяся ныне в некий несгораемый материал типа асбеста, спекшаяся в нерушимый культурный слой, на котором все лето произрастали сооняки, грибы и молодые побеги яблонь, гореть по законам физики не стала. Только сухая трава, взошедшая на этом слое по весне, сгорела дружно вся и без последствий, будто волосы на Парамошиной руке, а сам хлев отстояли. Перемазались, нахватав волдырей и ссадин, наглотавшись дыма, и даже — пожглись изрядно. Сарай, ничей, полуразвалившийся, отвергнутый жизнью, сгорел без остатка. Словно предали кремации неопознанное тело бродяги. А тут и рассвет подоспел. И вдруг все разом застеснялись порыва, опустили головы. Поняли: не пожар тушили — свою тоску. Иллюзия бурной жизни развеялась дымом. Неловко сделалось, когда в глаза друг другу посмотрели. Как в зеркало. На что, спрашивается, силы тратили, страсти? Сердец своих поношенных по какому поводу не щадили? Ну сгорел бы домик, ну два домика сгорело бы — что изменится? Кому они теперь нужны, эти домики? А вот не сбежали, дурачье, тушили.
Глядя на перемазанного сажей, полуголого Парамошу, отмеченного туристским синяком, полковник Смурыгин устало и одновременно виновато улыбнулся, взмахнул неопределенно рукой и решительно зашагал прочь.
Васенька, не остывший от пожарной горячки, одеваться не спешил. Сажа и пепел неотрясным, липким кружезом покрывали его потное тело.
«Нужно проворить баньку», — всплыло в памяти Олимпиадино выраженьице.
А Прокопий Андреевич, подняв с земли желтобокий кругляш антоновки, обтер его об ватовку, затем о бороду и, единственным сверху боковым клыком быстро-быстро начал состругивать себе в рот кисло-сладкую ароматную стружку.
Полковник в отставке Смурыгин Станислав Иванович подвинул красную занавеску на окне, отгораживаясь от пустынной мокрой улицы, отсекая от глаз своих мерклые остатки дневного света, напоминавшие о конце дня, исходе лета, иссякании еще одного года жизни. Не склонный к пустопорожним размышлениям, ко всяческой «лырике», расслабляющей волю, полковник, обосновавшись в Подлиповке, правда, не сразу, лет через несколько, приглядываясь и прислушиваясь к себе, как некогда к подчиненным, стал замечать за собой непростительные душевные вывихи, порывы в мыслях, как ему казалось, старческого происхождения, из того же ряда «наслоений», как, скажем, склероз, излишняя полнота, седалищные прострелы и прочие хондрозы телесные — только уже из области умственных фантазий и колебаний психики.
Он вдруг ловил себя на беспочвенной игре воображения, когда, к примеру, провожая в окне день или целый сезон, а то и календарный год, с завистью отмечал: «Им что, они вернутся — новый день с рассветом, новое лето — с весной, новый год — с последним отрывом от численника. А я, к примеру, заболей и помри — не вернусь никогда. Зароют, затопчут — и будь доволен. А может, вернусь все же? В природе все на повторах устроено. Может, продлюсь в чем-то или в ком-то? Не все ли равно — в ком. День после ночи тоже другой приходит, не прежний. Ему и число другое назначено. И лист из сучка на другое лето не бывший, а новый вылезает. Однако же вылезает! Может, и я вылезу?»— хихикал в несерьезной уверенности Станислав Иванович и вдруг, очнувшись от «пустомыслия» и ругнув себя для порядка «психом», принимался хлопотать по дому, погружаясь в мелочи жизни с удовольствием, как в рассол после «вчерашнего».
Было ему, человеку повоевавшему, пожившему всласть, покропившему кровью поля российские и тевтонские, было ему в порожней Подлиповке конечно же одиноко, одиноко, однако — не скучно: не умел он скучать, не был к этому состоянию приучен. Работы по дому и саду — хоть отбавляй. В лесу и на озере — охота, рыбалка, грибы-ягоды не столько для харча, сколько для развлечения и оздоровительной разминки, для увода себя из тишины надвигающейся старости. Но вот без людей своего круга было тошно. И всякий раз по наступлении холодов собирал Смурыгин рюкзак, замыкал на окнах ставни и нехотя, с явным сожалением подавался в город, где людей его круга становилось все меньше и приходилось даже знакомиться в метро, по догадке отлавливая «военную косточку» хотя бы для того, чтобы робко улыбнуться друг другу, но чаще — без взаимности, ибо старики не так уже сообразительны на встречную ласку, не всем подряд доверяют, не такая у них, как прежде, реакция скорострельная на разные там предсмертные штучки.