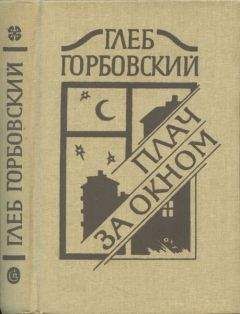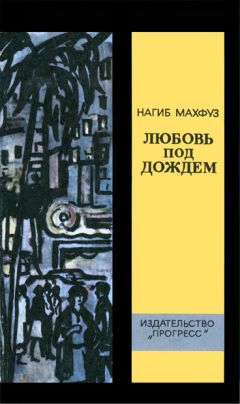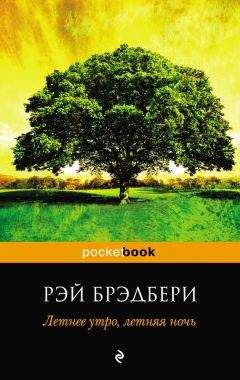Короче говоря, необходимо было понравиться полковнику или по крайней мере всколыхнуть в нем душевность, выпавшую с годами в осадок. И Парамоша старался. И, кажется, всколыхнул.
Парамоша не знал, однако догадывался, как эффектнее вручить подарок, чтобы сразу быка за рога, и потому не сунул работу в дверях, слепо и потерянно, а пронес ее в глубь избы, где и вручил, стоя под еамой электролампочкой.
Полковник, принимая подарок, вспыхнул и не погас, а долго, почти весь вечер, тлел неподдельным румянцем щек, кидая потаенные взгляды на свое изображение и с новыми силами ввинчиваясь в происходящее за столом.
— Как виновник торжества и хозяин данного дома, предоставляю слово Василию Эдуардовичу Парамонову, художнику, — торжественно объявил Смурыгин, постучав предварительно вилкой о баллон с сидором, призывая и без того молчаливых гостей к сосредоточенности.
Парамоша не запаниковал, не растерялся. Его жесты и фразы были тщательно отрепетированы на былых чердачных раундах и в подвальных файф-о-клоках. В зеленовато-болотных глазах, подернутое ряской скепсиса, застойно набрякло как бы само Васенькино, не шибко мудреное, мировоззрение: никого в отдельности не обижая, перехитрить, провести сразу всех, оптом.
И вдруг по не замаскированному бородой лицу художника пронеслись какие-то мысленные ветры, свершились какие-то перемены в атмосфере этого лица, какие-то умозрительные тучи, постоянно затенявшие суть этого лица, рассеялись, и Парамоша, пусть не надолго, предстал освобожденным от себя привычно жалкого, притонно-бутылочного, вскормленного питательной смесью гордыни с беспринципностью. Щечки его одутловатенькие вспыхнули румянцем веселого отчаяния.
— За женщин! — вознес Парамоша стакан с сидором, будто олимпийский факел.
Все заозирались, ища в комнате женщин, и, не найдя таковых, вспомнили про Олимпиаду, которая поначалу вместе со всеми недоумевала и вдруг сообразила: о ней речь!
Полковник в отставке взмыл над столом и тут же замер по стойке смирно.
— За женщин — стоя! — подал команду хозяин.
Сохатый приподнялся нехотя, отвернувшись от стола, от присутствующих. Приподнялась, не ведая правил, и сама Олимпиада.
— А ты, Курочкина, сиди, когда за твое здоровье мужики пьют, — распоряжался полковник. — Лично я против баб ничего не имею, — и добавил — Ничего хорошего. — И подмигнул Парамоше, как наиболее смекалистому (в сравнении с Сохатым). Приземлились опять-таки все разом, но как бы вновь по распоряжению именинника, на какое-то мгновение прежде других согнувшего ноги в коленях.
Уже сидя за столом и гоняясь с вилкой за маринованным грибом, скользящим по тарелке, полковник продолжал:
— Самое главное у человека — что? Анкетные данные. Национальная принадлежность и — что еще? Семейное положение. Так точно. Вот нас тут четверо в Подлиповке. Жителей, так сказать. И, похоже, у каждого с семейным положением, мягко говоря, туго. Деликатно выражаясь — никак. Курочкина — вдова, Кананыхин — не поймешь что — во всяком случае, одиночка, в бане живет; остаетесь вы… — воззрился полковник на Парамошу.
— Разведен.
— Ясненько. И тут поломано. А в результате, ежели в процентном отношении брать, получается: населенный пункт со стопроцентной семейной неурядицей. Отсюда и общий бардак. Во всемирном масштабе. Что касается меня — хуже некуда, скрываюсь от жены, как беглый от каторги. Баба у меня есть законная. Но лучше б ее не было! Потому как не просто чужие, но еще и ненавидим один другого. Слишком долго копошились друг в друге. Все тайны по-вызнали. Не любили — терпели. Выручило время, старость, которую все клянут. Благодарен я старости своей, как вот ты, Курочкина, Богородице. Только ты, Курочкина, смотри не помирай раньше срока. Держись. Без тебя деревне — труба. Без огонька в твоем окошке. Ты для меня стимул, Курочкина. Телевизор большой привезу. А этот, маленький, тебе отдам. Только не скучай. Сто лет живи, если пожелаешь.
— Спасибо на добром слове, только ить кому сколь дать — онному богу видать. В телевизор про такое не скажут.
Сохатый сидел за столом, как за холмом прятался, низко опустив седую косматую голову. Как выяснилось чуть позже — копил мысли, взбивал внутри себя пену решимости.
Парамоша — наоборот — впервые за много лет чувствовал себя раскрепощенно, как полноправный житель, пусть не города, всего лишь деревеньки зачуханной, — однако радовался членству подлиповского общества неподдельно; к чисто патриотическим восторгам примешивался теперь восторг причастности к жизни в экстремальных условиях, словно сидели они все четверо не в заурядной русской деревеньке, а где-нибудь на коралловом атолле, на который в любой момент могли сбросить атомную бомбу.
Парамоше хотелось не просто говорить, но даже как бы признаваться в любви этим людям, словно бы отпавшим от всеобщего государственного организма и жившим теперь по каким-то своим микрозаконам.
И тут Васеньку окликнул хозяин стола: f — Слышь-ка, Эдуардыч… А в сорок пятом, в Курляндском котле, не могли мы с тобой повстречаться? Где я лицо такое видел?
— Не могли, Станислав Иваныч. Я ведь в пятидесятом родился. Да вы не расстраивайтесь, что-нибудь придумаем.
— А не мог я папашу твоего на фронте встретить? Ты в кого больше удался, в мать или в родителя?
— Если честно — не знаю. Только не в мать.
— Значит, в отца! Он где у тебя воевал?
— Видите ли, Станислав Иваныч… — Парамоша не знал, говорить ему про «отсутствие наличия» в его биографии родителя или отмахнуться от вопроса.
Выручил Сохатый. Он вдруг поднял голову от тарелки, раскрыл рот и показал зубы — вернее, два зуба, мелькнувшие в зарослях бороды, как две медные пули.
— И чего роются в человеке? Како тебе дело до его отца? Раньше надо было копать. Когда в кабинете сидел, лопа-ата!
Смурыгин даже обидеться не успел на Прокофия, а Сохатого уже Курочкина поддержала:
— И то правда: каки у сиротки родители?
— Да не поняли вы меня! — шевельнул полковник могучим телом — так, что полы в избе заскулили, а у стола, как у перегруженной лошади, едва ноги не подогнулись. — И вовсе не копаю ни под кого. И в смысле лица: не вспоминаю — забыть хочу. Отделаться. Уяснить и, как говорится, закрыть тему.
— Сочувствую вам, — беззлобно улыбнулся Парамоша и протянул полковнику миску с грибами.
— Спасибо. И я того… сочувствую. И вот что: уходите, дорогой, отсюда. Подобру-поздорову.
— Как это понимать? — попытался сберечь на губах улыбку Васенька.
— А так и понимать, сынок… От чистого сердца предлагаю: беги! Потому что сюда милиционер приглашен. Скоро приедет. А милиционер документы проверить может. Которых у тебя, сынок, не густо… По моим сведениям. Понравился ты мне, Парамонов, вот и беги. А Лебедев, ежели мотоциклет у него не сломался, повяжет тебя непременно. В коляску посадит и в город отвезет.
В комнату словно бы шаровая молния влетела и закружилась над столом: все, кроме полковника, рты пораскрывали, ошарашенно насторожились.
— Не вижу причины для беспокойства, — поразмыслив, объявил собравшимся Парамоша. — В коляске — не в тюрьме, можно и посидеть. Для разнообразия. И прокатиться можно. Особых грехов за мной не числится. Не убивал, не грабил, по-крупному не воровал. Разве что бутылки порожние прихватывал в гостях.
— А по части трудоустройства? — нехотя выдавил из себя полковник. — У нас ведь трудиться положено, в государстве нашем. Кто не работает, тот…
— Того уничтожают! — отодвинул Парамоша тарелку с ароматным рагу и, взяв в руки стакан с сидором, приподнял его, как бы намереваясь произнести тост. — Кто не работает, тот не ест, с этим ясненько, Станислав Иваныч, но где сказано, что и — не пьет?! — хохотнул истерично. — Кто не работает, того уничтожают, папаша! Без иллюзий. Но скажите мне, господа трудящиеся, разве я не работаю? Разве так жить, как я живу, не трудно? Иной бы давно уже кровью харкал на моем месте! А я живу. И пенсии мне как своих ушей не видать. И пособия, заболей — не заплатят. В санаторий путевку не дадут. И прочие блага не про меня. Кому хуже? — вот вопрос.
Успокоился Парамоша, умиротворились и остальные сердца. За столом вновь воцарилось торжественное, ритуальное поглощение пищи, напитков, а также — произносимых слов и производимых жестов.
Хозяин вновь не слишком одобрительно отозвался о своей, как выяснилось, бездетной жене.
— Прихватило у меня перед пенсией желудок. То ли рак, говорят, то ли язва — неизвестно. Лежу, помираю мысленно. Баба моя сиделкой возле сидит, ждет. В глазах нетерпение. И вдруг бумажку подсовывает: завещание, дескать, подписывай! В бумажке у нее, у дуры, списочек: машина «жигули», телевизор цветной, деньги полторы тыщи на сберкнижке. И все по-глупому. Того, хищница, не понимает, что вся ее писанина — липа. Потому как — не по форме. Без штампа. Без печати нотариуса. Ну, взял я ручку шариковую и медленно так, слабеющей рукой вывожу слово «дура». Хотел еще одно ругательство накарябать, да сил не хватило. На подушку откинулся. А в войну, когда я родину защищал, с народным артистом РСФСР в Ташкенте связалась: наобещал он ей с три короба, в картину эпизодницей вставил. Может, видели такой фильм… A-а, да что говорить! Моя бы власть, я бы за измену супружескому долгу в войну, как за измену Родине, к стенке бы ставил!