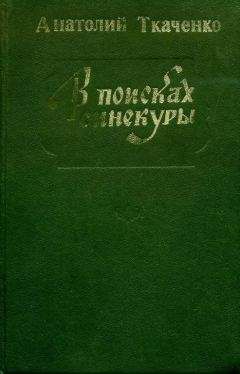— А рыбка — не родственница?
— Очень отдаленная.
— Японский бог! — Федя рассмеялся, ударил кулаком по столу, из досок посыпалась труха. — И правда: кушаем друг дружку, потому и злые! Защока всех колбасой угостит — сам не ест. Изучает нас, как братьев меньших.
— Все сложнее, Федя. Ему по старости мясо ни к чему. Другим же пока нечем его заменить.
— Не съешь меньшого — не потянешь для большого, так?
Посмеялись и притихли, слушая, как за Жиздрой, в густом ольховнике пробует голос соловей. Щелкнет — пошипит, покурлычет, будто прополаскивая горло настывшим, завлажневшим воздухом. Наконец вывел короткую, удивительно звонкую, чистую трель и надолго замолк, точно испугавшись слишком уж звучного запева. Ему отозвался такой же трелью соловей за излучиной реки. И тогда этот, ближний, словно бы получив полное право на песню, на яростное соревнование, залился таким перебором в несколько разнозвучных колен, что уничтожились все иные звуки на земле: канули в болото лягушки, подавились тявканьем собаки во дворе Борискина, потерялся среди полей запоздалый стрекоток трактора. Светлая, до синих звезд трель — черная, глухая, жутковатая тишина. И снова... резче запахло вспаханной почвой, горькой зеленью трав, листвы, шире, родимее ощутилось непостижимое российское пространство.
— Колдует, — сказал Федя. — Я его знаю, каждый год в том ольховнике. Большой умелец, задурить может — до света не уснешь. И лечит тоже. Я вот когда ездил по Северу и Сибири, к любой птице прислушивался: не соловей ли? У каждой земли — свой голос. А вам, Евсей Иванович, и подавно — только чайки пели.
— Вы на море служили, Федя, я — работал. Вы не успели привязаться к соленой воде. Служба — она всегда как бы над морем, поверху, чуть издали; работа — в самом море. И не всякий, испив горькой водицы до слез горьких, может легко вернуться к сухопутной жизни. Спросите: где труднее? Долго об этом думал, теперь точно знаю: на земле. Вот на этой, другой. Пахать, сеять, выкармливать скот — это не фарта искать. Там — риск, да. Тут — труд и терпение. Там ушел в море — и оденут, прокормят тебя, даже о душе твоей позаботятся, а будет удача — хорошо заработаешь. Тут — ты вечный работник, вечный хозяин самого себя. А это трудно. Море — для легких, земля — для основательных. И еще скажу: красивая сказочка, будто Мировой океан прокормит мировое человечество, начисто развеялась. Кормила и кормить будет земля.
— Вот вы и вернулись, чтобы... — с легонькой, необидной усмешкой проговорил Федя.
— Попробовать себя на главном...
— А верно: пока я бродил — и работы крепкой не знал.
— Маеты — сколько угодно?
— И это верно, Евсей Иванович. А скажите, доводилось вам гибнуть?
— В море постоянно гибнешь, даже в штиль. Что под днищем — никогда не знаешь. Тьмы неведомых существ, тьмы глубин. И суда, случается, бесследно исчезают. Один раз я уже простился с жизнью... Было в середине шестидесятых. В Баренцевом исчезла треска, холодным течением ее оттеснило, и ранней весной нас послали к берегам Лабрадора и Ньюфаундленда. А траулеры были утлые, паровые еще. Тресочку мы поначалу взяли, но налетел холодный циклон, и начали наши суденышки обмерзать. О, Федя, кто этого не пережил, пусть ему никогда и не приснится такое! На глазах обрастает льдом все: палуба, борта, надстройки, мачта, канаты, оттяжки, роба, ломики матросов, которыми они скалывают лед... Траулер грузнет, заваливается, рыба выброшена, палуба — ледяная гора. Люди задыхаются на ветру и соленых накатах, скользят за борт, хоть и привязаны к поручням, надстройкам. Теряли сознание от усталости, бессонницы — и долбили, долбили... Плакали не солеными или горькими — кровавыми слезами... Глохли машины, перевертывались суда...
— Тогда вы и решили?..
— Кажется, говорил уже, что я из тех моряков, которые так и не потеряли почвы под ногами. В каждую экспедицию брал какие-либо цветы, прикреплял банки к переборкам в своей каюте, поливал, ухаживал. Гибли, конечно, — туман, соль, железо... Дольше других держалась герань, эти домашние калачики, раз даже зацвели. Лук, правда, хорошо рос. Словом, возил с собой землю. А тогда поклялся: выживу — вернусь... Раньше обещали богу церковь построить, я — дом поднять на земле. Крепкий дом — благо себе, людям. Сначала дом — потом корабль, самолет, ракета... Как?
— Согласен: дом, — Федя постучал ребром ладони по своей могучей шее. — Вот этим местом почувствовал... Но вы-то долго еще возвращались.
— Пришли от Лабрадора, а наши в Баренцевом хорошую рыбу взяли, без мук великих: течение переменилось, теплое прихлынуло к нашим берегам, треску пригнало... Рыбак не уходит голым, надо было заработать, потом детей поднять, потом из Мурманска в Архангельск переселился, потом ясно стало: без пенсии рыбацкой, надежной, уходить глупо, раз уж море пощадило, как бы само выслугу начислило.
Опять молчали, слушая соловья в ольховнике; ему подпевали ближние и дальние, всяк на свой голос, в полную силу своего умения. Ночь была озвучена оглушающим пением — соловьиная. Чудилось, и звезды крупно мерцают, и речная вода бело всплескивается, и ветер цепко обшаривает черную пустую землю — от соловьиного пения, сотрясающего пространство колдовским, неразгаданным, извечным беспокойством жизни. Федя поднялся, пожал руку Ивантьеву, сказав негромко, что завтра пришлет жену помочь посадить картошку, немо прошагал за калитку, и показалось, его тракторок завелся с меньшей трескотней, а укатил уже и вовсе неслышно.
Ивантьев пересчитал на насесте кур, загнал в сарай поросенка, прилегшего у завалинки, кота Пришельца позвал с собой стращать запечных мышей, псу Верному приказал стеречь двор, на что тот ответил преданным согласием — лизнул руку. В доме было тепло, пахло привядшими цветами мать-и-мачехи, собранными Ивантьевым для приправы крапивного салата, было вяло и сонно. Но длилась ночь долго, хоть и без томления. Просыпаясь, Ивантьев слушал неистовый соловьиный гомон, чувствовал: отзывается ему все в доме — стекла окон, люстра под потолком, иссохшие до звона сосновые стены, и колеблются вроде бы занавески от напора звуков.
Притих Лохмач за печью (убаюканный? очарованный?), молчали мыши. Ночь была бесконечной и освежающей.
Ивантьев встал в шесть утра, по-молодому взбодрил себя зарядкой, обливанием колодезной водой, принялся топить печь, налаживать обед: сегодня придут работнички «обряжать», как сказала Самсоновна, огород, и накормить их надо всеми своими лучшими припасами.
Смолкли соловьи в рощах, солнце подсушило росу, занялся высокий чистый день — из тех крестьянских, которые год кормят. И его огласила иная песня: по хутору шли с тяпками Анна, Соня, Никитишна, что есть мочи выводя: «Это кто же нам счастливую дорожку проложил...» Подоспела на голоса Самсоновна. Во двор Ивантьева ввалились с хохотом, шутками-прибаутками, наряженные в свежие цветные платочки. Самсоновна крикнула:
— Выходь, капитан, матросская команда в юбках явилась!
Смущенный Ивантьев вышел на крыльцо, но не успел поблагодарить женщин за этакое дружное внимание к своей особе, как Соня нарочито тоненьким и сердитым голосом выкрикнула:
— Не, не, Евсей Иванович! Чтоб в морской форме! — Она подтолкнула вперед своих детей, Петю и Верочку. — Хоть фуражку наденьте. А то капризничать будут, работать не дадут.
— Производственность снизим, — подтвердила Никитишна. — А Ульян наказал, что все — по высшей агротехнике.
Нацепив фуражку, Ивантьев рассмеялся своему виду: в поношенной телогрейке, кирзовых сапогах — и новенькой мичманке. Зато женщинам, Пете и Верочке он явно нравился, ему, стоявшему на крыльце, как на почетном возвышении, даже похлопали в ладоши.
— Теперь командуй, — приказала Самсоновна.
Никитишна взялась разбивать, пушить грядки под огородную мелочь, пообещав снабдить капитана-огородника огуречной и помидорной рассадой; Самсоновна, усадив детей у стола под яблонями, присела там же резать клубни для посадки, Ивантьев, Анна, Соня вышли на вязкую, влажную с ночи пашню, взяли первый рядок, быстро приспособились к работе: Ивантьев вскапывал лопатой лунки, Соня брала из корзины картофелины, укладывала их ростками кверху, Анна приваливала лунки землей.
Говорила, смешила, развлекала всех конечно же толстенькая, проворная Соня. Выйдя замуж за громоздкого, чуть медлительного Федю, принеся ему двух синеглазых, беловолосых детей, она, кажется, так и осталась смешливой девчонкой — ни морщиночки на лице, ни грустинки в широких коричневатых глазах. При муже Соня хитровато затихала, а на людях давала волю своей неуемной говорливости.
Она высмеяла бабу Утю Борискину, которая немедля захворала, узнав о решении хуторян скопом помочь новоселу, а сам Борискин выдал ей «липовый бюллетень», чтоб лечилась на личной садово-огородной плантации: и здоровье поправится, и сберкнижка новыми рубликами пополнится. Анну, пытавшуюся защитить бабу Утю, назвала бесплатной домработницей, милой подруженькой, которую надо выручать из кулацкого дома. Затем нарочито мужским голосом напела с десяток страдательных частушек про любовь и сельскую жизнь и выкрикнула, бросив в лунку крупную картофелину: