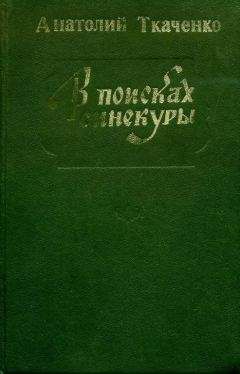Слушал Ивантьев, кивал деду Ульке, сочувствуя его речам, и со смущением думал о себе: ведь он почти так же поддакивал Борискину, когда тот обстоятельно развивал свои мысли насчет приусадебного участка, меры расширения хозяйства по принципу «сколько смогу — столько сроблю». Теперь ему было ясно: хороший работник Борискин, хозяйственней Ульки, но у него — только себе, для себя. Улька же думал еще и обо всех, мучился большими проблемами, пусть не всегда посильными его разумению.
— Дальше давай, Евсей! — Распаляясь и как бы роднясь от взаимно интересного разговора, Ульян обычно начинал называть Ивантьева по имени. — Глянь на меня, определи: силенка у меня имеется?
— Я бы вас, Ульян Афанасьевич, боцманом взял.
— Слышь, Никитишна! Высшая оценка, уважай мужика, слушайся, не то и поучить когда могу!
— Как же, как же, — неожиданно мирно согласилась хозяйка и положила руку на плечо Ульяна. — Убоись жена мужа... Без мужика — дома нет, что ни говори. Без мужика вон Анька на Борискиных работает, уж столько им натрудилась — свой бы дом построила, да одной смысла нет, если семьи не заведешь. Плохонький, а мужик пускай будет, около него, за ним — и баба определится... Ты не вскидывайся, не серчай, — чуть прижала ладонью широкое плечо Ульяна серьезно рассуждающая Никитишна. — Ты у меня и в капитаны еще годишься. Я это к примеру говорю. В хозяйстве — не в городе, где по квартиркам живут, из магазинов питаются, деньги одинаковые получают и всю жизнь спрашивают друг дружку: ты меня любишь али нет? Квартирка без мужика — может, дом — пропадает.
— А без хозяйки? — спросил Ивантьев, вспомнив высказывания Защокина о доме, семье, удивляясь одинаковости мыслей доктора и простой крестьянки.
— Хе, — усмехнулась Никитишна. — Глянь, сколь хозяек по деревням. Их всегда больше было. К доброму мужику десяток попросится, только объявись такой мужик.
— Правильно понимает, — с пристуком кулака по столу подтвердил дед Ульян. — Укрепляйся, Евсей, проверишь на себе: природа наша еще живая, пустоцвета не любит, все расплодом заполняет...
— Вы отклонились, Ульян Афанасьевич, — перебил его Ивантьев, боясь, что старик заговорит об Анне, хотя деликатные хуторяне не тревожили его даже намеком на сватовство.
— К тому, к тому веду. Расплод, он и есть расплод. Человеческий, хозяйственный. По своей силе, на своем дворе я могу много держать скотины. А ездить, ходить на главную усадьбу, извини, ноги не те, годы усталые. Как мне помочь общественному расплоду? И думать не надо, тут умно написано: «Следует все больше укреплять связи личного подсобного хозяйства с общественным. Назрела необходимость создания и всемерного развития между ними кооперации. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. В Богучарском районе Воронежской области многие колхозники по договору откармливают свиней для колхозов и совхозов. В Горьковской и Пензенской областях пенсионеры также по договорам содержат в своих дворах колхозных свиноматок. Им выдают корма». Ну, что хорошего скажешь? Имеются умные головы? Сколь хошь! Да ты мне дай кормов, зерна, так я десяток хряков выкормлю и сотни две птицы. Сознательности хватит. И, будь уверен, Евсей, Борискина, прочих втяну, расшевелю их непробудную совесть.
— Согласен, такая кооперация нужна. Помог бы и сам, хоть пока из меня хозяин — никакой, картошку не умею сажать...
— Научим, Евсей. А помощь окажи, прошу. Ты грамотный, обдумай письмо в редакцию, изложи наши пожелания, оба подпишемся и Федю еще привлечем.
— Почему бы и нет? Попробую.
— Тогда по рукам! — Дед Улька намеренно сжал ладонь Ивантьева изо всей своей наработанной силы, задиристо глядя ему в глаза чуть шельмоватой хмельной синью нестареющих зенок, но Ивантьев, тоже раззадорившись, сначала выдержал неожиданный вызов, а потом и пережал руку настырного аборигена Соковичей. — Добро! — отозвался дед. — Признаю земляка, роднюсь, почитаю! Теперь идем поросят смотреть, самая пора.
Втроем вышли во двор, парящий сладко старой волглой соломой, протаявшим, душно теплым навозом у коровника, жирной землей с огорода, свежей, острой зеленью от парника под синтетической пленкой; сновали, грелись у стены сарая куры, петух встретил хозяев бурным хлопаньем крыльев, хриплым пением после холодной зимовки; гусь и гусыня крупной породы чистили перья, охаживали друг дружку, готовясь в очередной раз размножиться крикливым семейством; а по обочине огорода гуляла главная скотина двора — черно-пестрая холмогорка с бело-розовым тяжеленным выменем, она вскинула голову, скосила влажный разумный глаз, коротко мыкнула, также поприветствовав хозяина и хозяйку.
В рубленом хлеву, на чистой сенной подстилке вольготно развалилась огромная свинья, сладостно хрюкая и повизгивая от удовольствия, доставляемого ей сочно тянущими сосцы поросятами; их было десять или двенадцать — округлых, веских, молочно-розоватых, хлев и впрямь напоминал гнездо с кладкой необыкновенно крупных яиц.
— Катя, Катя! — позвала Никитишна.
Свинья важно приподняла тяжелую голову, мигнула слеповато-красным глазком в белых ресницах, чутко засопела нежным пятаком носа, и хозяйка вложила ей в рот горбушку хлеба; свинья Катя сжевала, сладко чавкая, ткнулась носом в руку хозяйки, словно благодарно поцеловав ее, и Ивантьев сказал, не сдержавшись при виде этакой «расплодной» идиллии:
— У хорошего хозяина и свинка — господинка.
Дед Улька кивнул, без малого хвастовства соглашаясь, мол, так оно и должно быть, подвинул Ивантьева вперед, приказал:
— Выбирай, Евсей Иванович, попытай свое счастье. Тут больше кабанчиков, у них ушки поострее. Приглядись, наметывай свой глаз.
Никитишна, приметив растерянность Ивантьева, глазами, носком резинового сапога указала ему на поросенка в самой середине поросячьего ряда, с колко поднявшейся щетинкой на загривке, усмехнулась, как бы молча объяснив: такого на край не вытолкнешь, и аппетитом не обижен, сосет, аж захлебывается. Ивантьев ткнул в него пальцем.
— Молодец, Евсей! Ну, хвалю! — изумился дед Улька. — Наш, природный, соковицкий мужик! — И, быстро выхватив из плотного ряда поросенка, сунул его за полу пиджака, шагнул из хлева, подталкивая Никитишну и Ивантьева. Подняла голову медлительная Катя, грозно хрюкнула, расшвыряла поросят, ринулась к людям, но они уже были во дворе, а дверь закрыта на тяжелый железный засов.
— Забудет, — сказала Никитишна. — Простит... Ульян всегда сам отнимает, мне жалко, не могу.
Поросенка посадили в мешок, проделали дырку для пятачка, чтобы не задохнулся, он притих, напуганный темнотой, и Ивантьев осторожно взял свою первую животинку под мышку. Упругий, тяжеленький, горячий, с неистребимым запахом хлева, поросенок, как ничто другое, напомнил ему детство: холодными веснами такие вот забавные хрячки обитали в кухне, затем их пасли на первой траве за огородом, рубили для них крапиву, а с первыми морозами — забивали, чередуясь дворами. И это были сытные праздники, особенно радостные после скудного квасного лета. Жарилась свеженина, коптились окороки, солились колбасы. Деревня благоухала мясными ароматами, люди, полнясь силами, готовились к одолению зимних стуж.
Шел Ивантьев улицей маленького хутора и вслух читал стихотворение из записной книжки доктора Защокина:
Баба везет поросенка
В переполненной электричке
И кохает его, как ребенка,
По бабьей своей привычке.
Поросенок визжит, корчится.
От мешка полыхает хлевом,
И вагон возмущенно морщится,
Наполняясь единым гневом.
Баба везет, кохает,
Надо — хозяйство зачахнет.
Быть может, одна и знает,
Что мясо сперва воняет,
А после — отменно пахнет!
От своего дома окликнула его Самсоновна:
— Евсейка, чего бормочешь, будто лешак?
Прочел и старухе стихотворение. Возмутилась:
— Дак запрет же возить в электричках! Очумелая баба, што ли?
— Не в этом дело, дорогая, милая соседушка! Глянь-ка, кого я несу. «Надо — хозяйство зачахнет!»
— Ай, Евсейка-рассейка, глупай ты, глупай! Позабыл про глаз мой. Гляну на твое порося — и зачахнет враз. Когда на корм перейдет — покажь, тогда от рахита уберегу, травкой донником будешь подпаивать.
И правда, позабыл. А ведь поверил было и в травы Самсоновны, и в ее черный глаз. Горожанин привыкает к ясности всегдашней, чтоб все как дважды два; но он ведь еще и моряк, а в море часто туманно и зыбко, без веры в свое везение, в милость Нептуна не проживешь, как без суеверий здесь, на этом полувымершем хуторе, среди лесов, полей, болот. Такое везение — соседствовать, дружить чуть ли не с живой ведьмой, побаиваться ее и ждать всяческих чудес!
И чудо тут же свершилось.
Самсоновна пристально оглядела бредущего по улице понурого пса с вислым хвостом, подманила его, пригладила робкие уши, ощупала сильной рукой хребет, сказала:
— К тебе пришел. Бери. Добрый сторож будет.