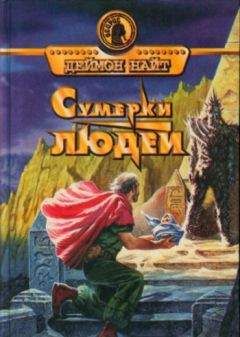Писатель посидел, посидел — заскучал. Попросил разрешения сыграть одну пятиминутку, испробовать себя в этом скорострельном деле.
Сеня, Эдик и Вадим уставились на него настороженно-мутными взглядами.
Карапузин усмехнулся.
— Ну, садись, — сказал. — Только учти: это тебе не романы сочинять — тут головой думать надо.
Стали играть. Зеленину мешали часы — он забывал выключать их. Приятель, злясь, делал это за него. Свои ответные ходы он наносил (именно наносил) мгновенно, как кошка лапкой — хап!
Зеленин непозволительно долго думал. Дважды, по дилетантскому обыкновению, он попытался переходить. Карапузин, так же мгновенно и молча, вернул его фигуpы обратно.
Дело близилось к финалу, то бишь к эндшпилю. И тут Зеленин увидел, что следующим ходом ставит Карапузину мат. Он не сразу поверил глазам, промедлил какую-то секунду — и уже занес было руку, как вдруг приятель хищно сказал:
— Канут тебе! Флажок упал.
— Как упал? — не понял Зеленин.
— Каком кверху! — рассмеялся приятель — Проиграл ты: время вышло. — И подмигнул: — Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время.
Зеленин расстроился. Что за дурацкая игра! Без одной секунды мат — и ты же проиграл! Догоняшки какие-то. Это получается: ставь фигуры куда попало, шуруй — кто быстрее, а голова вроде и ни при чем.
Он отодвинулся, уступил место Сене. Сам еще какое-то время посидел рядом, понаблюдал за этими… спортивными состязаниями.
Карапузин разок проиграл Эдику, а потом опять пошел щелкать всех подряд. В одной партии у него самого упал флажок, а противник не заметил.
— Флажок-то упал, — услужливо подсказал Зеленин.
— Ты! — вызверился на пего приятель. — Сидишь тут!.. Фрайер Моня. Ему же мат корячился через два хода!
Вот те на! Когда у Зеленина упал флажок, друг не пожалел его. а сам… Ну и ну.
Карапузин, поостыв маленько, сказал:
— Ты, вообще, шел бы на кухню… гроссмейстер закаканный. Водочки выпей. Чайку нам заодно сообразишь. Покрепче.
Писатель и пошел на кухню. Он хорошо ориентировался в квартире приятеля, знал — где что лежит.
А на кухне уже сидел один, тоже, видать, уволенный. Рыжеволосый такой, слегка конопатый и, как показалось вначале Зеленину, очень еще молодой. Сидел — водочку пил. В печальном одиночестве. Зеленин раньше его у приятеля не встречал.
— Здравствуй, — сказал конопатый, — Вова… Я — Boвa.
— Здравствуйте, — ответил Зеленин и тоже назвался. Конопатый, не спрашивая, налил ему водки, горестно шмыгнул носом, пожаловался:
— Восемь партий дунул. Вот же шакальство!
Он, стало быть, горе здесь заливал, проигрыш свой сокрушительный. Да стоило ли уж так-то? Зеленин вон тоже проиграл… одну, правда, только партию, не восемь. Но зато как! — за мгновение до мата.
Выяснилось одно, через минуту буквально, что главное-то горе у незнакомого Вовы другое. Проигрыш — это так, семечки. Судьба у него была поломанная — вся: карьера, личная жизнь…
— Ты кто? — спросил он.
— В смысле? — уточнил Зеленин.
— Ну, работаешь чего?
— Да так… книжки сочиняю, — неохотно сознался Зеленин.
— А-а, писатель, значит! — почему-то недружелюбно произнес конопатый. — Тогда скажи, раз писатель: можно человеку за четыре мешка макового семени жизнь коверкать? Гуманно это?.. В нашем-то обществе.
И, не дожидаясь ответа, принялся излагать свою историю.
Он четыре мешка макового семени украл когда-то. Да не украл — помог сбыть. Завскладом одному помог. Протянул руку помощи. Залежалое было семя, никому не нужное, забытое. А он договорился с какой-то кондитерской — там взяли. (Договорился или указание дал… Что он был тогда за шишка, Вова не уточнил, сказал о себе коротко и просто: «Я торгаш».) Ну вот, помог человеку. И общему делу. Он ведь рассчитывал, что в кондитерской из этого семени рулетов с маком напекут и трудящимся реализуют. А ему за его разворотливость — два года условно. Завскладом — семь лет с конфискацией, а ему — два условно. И пришлось тянуть срок, на «химии». Оттянул, сунулся на прежнее место — хрен да пара кокушек! И вообще — никуда… Хорошо, Глеб помог. — Вова повел головой в сторону комнаты, — воткнул директором рядовом столовки. Это его-то на столовку, а?! Жена, паскуда, ушла, трехкомнатной квартиры не пожалела. Конечно! Директор столовой ей на фиг не нужен — мелкая сошка… «Но что самое обидное! — тут Вова, излагавший все предыдущее ровно и уныло, аж кулаком по столу пристукнул. — Что самое подлое: мак-то этот свиньям скормили! Судья так и сказал: свиньи съели!.. В глаза смеялся, с-сука!»
— Свиньям, а! — с болью повторил Вова. — А ещё молотим: перестройка, перестройка! гласность!.. Вот напишешь ты про такое?
Писатель молчал, не знал, что отвечать. Да и не собирался этого делать. Скучно глядел в тарелку.
Рыжеволосый тоже помолчал. И снова заговорил — не всю еще, как видно, душу вывернул.
— В Америке тюрьмы лучше! — сказал неожиданно. И очень убежденно: будто сам их прошел насквозь.
Зеленин вопросительно вскинул глаза.
— Да-да, лучше, — капнул Вова. — У них посадят опасного преступника в одиночку — и парится он там полностью изолированный. А у нас? Насмотрелся я на этой «химии»… И урки, рецидивисты, и пацаны сопливые — вместе. Buy шестнадцать лет, он бабушку случайно велосипедом переехал, а его — к уркам!
Про бабушку Вове явно понравилось, он повторил со вкусом:
— Представляешь? Он бабушку-старушку великом сшиб, а его — к этим! И они его там образовывают, формируют… Демократия это? порядок? гуманность?.. И про такое ты не напишешь! — заключил он жестко, сделав ударение на «такое».
Зеленин посмотрел на него долгим взглядом. Ч-черт! Карбонарий прямо. Борец за нравственность, за гражданские права. И откуда такой выковырнулся?
— Не напишу, — сказал спокойно.
— Вот! — конопатый ввинтил палец в стол. — А потому, что заелись!
Ответ его, похоже, весьма удовлетворил. Он допил водку и собрался уходить.
Зеленин, выждав пару минут, тоже пошел одеваться.
Вова в прихожей неторопливо влезал в дорогое кожаное пальто. Зеленин потянул с вешалки свое — «на рыбьем меху».
Выглянул из комнаты Карапузин, погрозил конопатому пальцем:
— Княгиня! Карточный должок! Он эрудит был, Глеб Карапузин.
Конопатый достал бумажник, отсчитал сорок рублей — пятерками.
— За восемь партий, — усмехнулся. — Верно? Капитально ты меня прибил сегодня.
— Не горюй! — утешил его Карапузин. — Подтренируешься дома, теорию поштудируешь.
До Зеленина дошло, наконец: они же на деньги играют — по пятерочке партия! Он засуетился:
— Глеб, ты извини, я не при деньгах! — и пошутил неловко. — Автобусными талончиками ты, полагаю, не возьмешь?
— Ладно, старик! — хлопнул его по плечу Карапузин. — С нищих писателей не берем.
Пошутил друг-приятель Глебушка, а получилось точно: нищим выглядел писатель Зеленин рядом с "мелкой сошкой" — полуторатысячным, хромовым, страдающим Вовой.
Они вышли вместе.
Темно было. Порывами налетал из-за угла ветер. Вова поднял воротник. И опять затосковал, заскулил прямо:
— Эх, жизнь!.. Куда пойти? Куда податься?
И топтался на месте, не уходил, будто ждал, что Зеленин вот сейчас нежно обнимет его за плечи и поведет к себе — врачевать израненную душу.
Зеленин не прореагировал. Тоже поднял воротник, буркнул: «Пока», — и пошагал прочь.
И вот, когда шел он, зябко сутулясь, сквозь сырую, ветреную ночь, и стукнула ему в голову эта самая мысль:
Господи! Как же хорошо, как благородно у классиков-то начиналось!., «играли в карты у конногвардейца Нарумова»… В карты! Да еще, наверное, по-крупному.
И компания у конногвардейца, вроде, не шибко положительная собиралась. Герман, скажем… старуху графиню в конце концов уморил. Да и Томский тот же — хлыщ салонный. Шампанское хлестали! — с утра пораньше. А все приличные люди… Тут же! И водку не пьют. И не уморили никого, наоборот даже — сами жертвы невинные (Вовик-то этот). И не в карты режутся — в шахматы играют… А срамотно почему-то, погано — ну, просто вот плюнуть хочется.
Зеленин так и сделал — плюнул.
Поговорим сначала о памяти. Об этой стихийной, расточительной, ненадежной штуке. Да, ненадежной. Один мой старинный друг, поэт, еще в молодые свои годы воскликнул: «До чего ж не надежна ты, память людская, сколько в складках и складах твоих чепухи!» Дескать, всё поперезабудешь к аллаху со временем, а какая-нибудь ерундистика возьмет и врежется — навеки. Ему, кстати, врезались навеки такие вот сведения из школьного учебника географии: «Река Миссисипи ежегодно выносит в море пятьсот миллионов тон ила», А спрашивается — зачем?
Н-да… А может, все как раз наоборот? Может, память наша надежна, мудра, бережлива? По отношению к себе самой бережлива: отбирает и хранит лишь главное, лишь самое необходимое — не казавшееся тебе когда-то ни главным, ни необходимым — и старательно оберегает себя… от чего же оберегает? От пустяков? Да нет, пустяки-то, бывает, крепче другого прочего помнятся, как другу моему — эти миллионы тонн ила. Но и они помнятся каждому свои. Вот он запомнил, ночью подыми — скажет, а я, чтобы привести здесь этот пример, — хоть много раз слышал его стихотворение и глазами читал, — опять вынужден был в книжку заглянуть: сколько там миллионов-то?