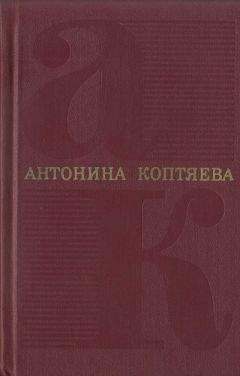Дронов возмутился:
— Самое горячее время наступило для работы. Некогда болтаться по курортам. Буровая Самедова нынче наверняка нефть даст, и надо принять меры, чтобы там простоев не было. Отощал! Да тощие люди всегда выносливее толстяков!
В мастерской было прохладно. Предвечернее солнце, заглядывая в окно, ткало мутно-желтую дорожку в воздухе, пахнущем махоркой, машинным маслом и окисью металла. Ярулла, крутивший колесо токарного станка, на котором Семен Тризна вытачивал деталь, не услышал, как скрипнула, широко зевнув, дверь. Вошла крупная женщина, судя по одежде, татарка, и застенчиво остановилась у порога, прикрывая лицо углом байкового платка.
— Вам кого, гражданочка? — спросил Алеша Груздев.
— Низамов… Ярулла Низамов, — просительно прозвучал тихий голос.
Ярулла порывисто обернулся.
— Наджия?!
Да, это была она, в отцовском бешмете, высоко приподнятом на животе. Вздернулся спереди и подол ее цветастого сатинового платья, из-под которого выступали голенища простых ичигов. Даже увидев мужа, Наджия не отвела от лица край платка; и оттого, что она была такая ненарядная, неуклюжая, с выпирающим животом, острая жалость к ней охватила Яруллу.
— Здравствуй! Как ты доехала? Что у нас дома делается? — заговорил он по-татарски и подошел к ней, заботливо заслоняя ее от насмешливых взглядов.
Но никто и не думал насмехаться. Наоборот, смотрели сочувственно, а Семен Тризна, запомнивший разговор с Яруллой, деловито обратился к Алексею:
— Надо, товарищ директор, угол им выделить, обеспечить, так сказать, коммунальной жилплощадью. Правда, Низамов собирался землянку сделать, но это песня долгая.
— Конечно, быстрее все устроим. Но как? В деревне снять квартиру — далеко на вахту добираться. В рабочем бараке поместить — теснота. — Алексей замолчал, соображая: Елене до больницы тоже неблизко, но сельсовет дает ей подводу.
— Ярулла обещал, что его жена сможет хлеб выпекать для буровиков, — нажал Семен, недовольный медлительностью директора.
— У нас в землянке четвертый угол теперь почти свободный, — подсказал Дронов, которому тоже хотелось помочь Ярулле, в семье которого ожидалось прибавление.
Ярулла молчал, посматривая то на одного, то на другого «начальника». Только сейчас ему представилась вся трудность его будущей семейной жизни: Наджия стесняется посторонних мужчин, да и сам он не намерен сажать ее за общий стол. (Не из ревности, нет, но таков обычай.) Да и приставать будут: женщина молодая, здоровая, без шуточек мимо не пройдут. Тот же Джабар Самедов…
— Давайте поместим их в мастерской, — решил Груздев. — Наступает лето, большую часть ремонтных работ будем производить на улице! А здесь, вот так отгородим, печку кирпичную поставим, чтобы обе комнаты грела. Отдельный выход можно сделать. Прорежем, ребята, еще одну дверь для правоверных мусульман, а?
— Прорежем! — весело крикнул Тризна, тронутый радостной улыбкой Яруллы.
35
Квартира у Яруллы получилась лучше, чем у инженеров: светлая (прорезали еще одно окно в стене бывшего амбара), сухая и теплая. Приходя домой с работы, он уже не грыз черствый хлеб, запивая его горячей водой: Наджия обязательно умудрялась сварить лапшу или постный суп с картошкой, подбеленный мукой. Как все татарские женщины, она любила чистоту и порядок и даже угол у печки отгородила, как у себя в деревне, повесив по обычаю пеструю занавеску, от которой в маленькой комнатке сделалось совсем тесно. Благодаря заботам жены жить стало легче, и Ярулла мог бы спокойно работать, если бы не Зарифа…
Наджия знала ее с детства, и поэтому они встретились как старые знакомые, но одна, ничего не подозревавшая, с радостью, а другая сдержанно.
— Нравится тебе здесь? — спросила Зарифа, делая вид, что не замечает беременности Наджии.
— Ничего. Хорошо. Народ говорит: куда иголка, туда нитка. Так и жена за мужем следом идет. Ведь заботиться о нем нужно.
Прищуренные, точно от боли, глаза Зарифы остро блеснули и спрятались под густыми ресницами: даже взглядом боялась она выдать свои чувства. И несимпатична ей Наджия, и странно близка оттого, что связана с судьбой Яруллы Низамова. Понравилось тут… Еще бы! Жены русских инженеров, которым она выпекает хлеб, делятся с нею продуктами, готовят приданое для ребенка. Вот квартиру отдельную устроили, а Зарифа бегает сюда из села, расположенного в шести километрах от буровой конторы. Там изба умерших родителей Магасумова и лавка сельпо, в которой работает он — нелюбимый муж. Скоро родит Наджия… Мысль о ребенке обжигает сердце Зарифы: ведь этот маленький будет от Яруллы! Родит ему Наджия!
«Но почему не я? — мысленно кричит Зарифа и со вспыхнувшей ненавистью оглядывает счастливую соперницу. — Да, скоро уже! Связала ты его по рукам и ногам. Он смирный, добрый, поддался на уговоры родителей, а из-за этого моя жизнь разбита».
Зарифа торопливо отходит, издали оборачивается, небрежно машет рукой, как бы говоря: это тебе спешить некуда, а меня работа ждет, я не курица, привязанная хозяином к ножке стола.
Магасумов пробовал заточить ее дома, но наткнулся на такой отпор, что сразу смирился. Утверждая свою независимость, Зарифа часто ночует в землянке инженеров, с женами которых подружилась, но приходится бывать и у мужа.
«Отчего я должна жить с ним? — часто спрашивает она себя. — Пусть он добрый, честный, любит меня, но я-то не люблю, не мил он мне! Так в чем дело? Боюсь быть разведенкой, что ли? Ведь не только на работу дала мне право советская власть, а и на счастье! Вот Наджия толстокожая могла бы спокойно жить и с Магасумовым. Ей только бы муж, а какой — все равно».
Но Зарифа ошибалась: Наджии тоже было небезразлично, кто ее муж; правда, поначалу она спокойно отнеслась к своему замужеству, зато теперь очень привязалась к Ярулле.
А у буровиков ей нравилось больше, чем в деревне, потому, что жили они дружнее крестьян, и хотя выпивали после получек, однако не затевали безобразных ссор, а то и драк из-за старого ведра или украденного хомута. Здесь делить нечего, а забота у всех одна: найти поскорее нефть. И это тоже нравилось флегматичной только с виду Наджии; и она стала с нетерпением ждать открытия нефти, как ждала появления своего ребенка.
Вот он толкается в ее животе, да так сильно, что она охает и, опустив на колени руку с зажатым в ней гребнем, в блаженной забывчивости следит за тем, какие фокусы выкидывает ее первенец. Распущенные волосы свалились с плеч на постель; окутанная ими женщина сидит на низких нарах, словно медведица в берлоге, и затаенно улыбается своим мыслям и ощущениям. Кто он? Мальчик, конечно. Здесь она повесит ему люльку… Спасибо русским товарищам, дали комнату отдельную, хотя сами ютятся в общежитии!
Почти каждый день собираются они в этой избе за перегородкой, громко разговаривают, гремя железом. Монотонно жужжат станки; в привычные шумы врывается иногда рокот идущего трактора, а потом звонкий голос Зарифы. Как она не боится, отчаянная, ездить на такой страшной машине? Шум за стеной не мешает Наджии, напротив, он внушает ей уверенность в безопасности милого сердцу жилья, и в этом она похожа на голубя, свившего гнездо на верхней площадке вечно грохочущей буровой вышки.
Сегодня женщины поселка пойдут в баню. Наджия заранее смущенно краснеет. Что плохо здесь — так это баня: один раз в неделю — общая женская, на другой день — общая мужская. В татарской деревне, при всей бедности жителей, у каждой семьи своя банька: девочки-подростки стесняются даже матерей, женщины ходят мыться только с мужьями.
Зарифа, кажется, уже бежит, топает… Так и есть — она: с узелком под мышкой, в сапогах и поношенном ватнике, глаза горят, как у мальчишки-сорванца.
— Что ж ты расселась? — бросает с порога. — У нас сегодня политзанятия, поторапливайся!
Мечты Наджии о маленьком мальчике, играющем в люльке, вспугнуты, но она все еще точно дремлет, до краев налитая соками жизни.
— Подбирай космы! — командует Зарифа, отметив мельком красоту густых волос соперницы. — Одевайся, женщины уже моются.
Наджия делает слабое движение рукой: успеем, мол.
Зарифа закипает от нетерпения.
— Пошли скорее!
Идут они по весенним тропочкам по-разному: Наджия — вразвалку, словно утица, Зарифа стремительно. Кажется, сменить ей рабочие сапоги на легкие ичиги — и понесется она над землей, уже тронутой первой прозеленью, над берегом речонки, с зарослями верб, покрытых белыми мохнатыми почками.
В бане — большой полуземлянке — пахнет березовым листом, жарко даже в предбаннике. Отвернувшись, Наджия раздевается в уголке и, прикрываясь, идет в мыльную; ее радует, что там полутемно, да еще клубятся облака пара: на высоком полке отчаянно хлещет себя веником худенькая Дина Дронова, громко ахает от удовольствия. Жена Груздева закручивает узлом волосы, сверкая мокрыми локтями, и тоже лезет наверх — то ли собирается урезонить расходившуюся Дину, то ли самой захотелось попариться. Глядя на них, и беленькая крепышка Танечка берется за веник.