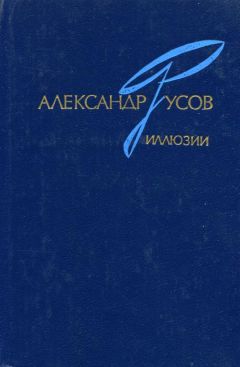Стекла в ресторане начали отпотевать и потекли. Впрочем, довольно скоро мы ушли оттуда, и теперь я уже не помню, где именно происходил наш разговор с Ингой — в ресторане или на улице. Мы и впрямь должны были стать хорошими друзьями, чтобы по субботам собираться где-нибудь вчетвером — две супружеские пары, которым есть о чем поболтать. Но дьявол был начеку, змей успел обвить ствол яблони задолго до того, как мы открыли рты, чтобы сказать первые слова, а съеденное вдвоем яблоко было отравлено и того раньше.
Мы вышли из ресторана и теперь шли по сырому шоссе. Низины и склоны Карпат были густо утыканы крошечными мохнатыми деревцами, и справа, в котловине, лежала маленькая деревушка — наше будущее пристанище — как случайный мазок по загрунтованному холсту.
Инга ликовала:
— До чего славно здесь, до чего хорошо! Я так люблю дождь.
Ни одного однообразного участка местности не виднелось вокруг. Я подумал, что где-то в этих краях должно было сложиться представление европейцев о рае, и понял: счастье может носить имя местности. Воздух напитан дурманом, загадкой; насыщенность юга сочетается со среднерусским спокойствием лугов и перелесков. Временами такое чувство, что ты в Подмосковье, но где-то змеей прошуршит по камням горный ручей, соскользнет под ногами земля на склоне. И особенно деревья. Их гигантские размеры постоянно напоминают, что ты не дома.
Когда Инга Гончарова и Андрей Березкин возвращались к месту стоянки автобуса, она опустила лицо, и на тонкую ее шею упало несколько капель с дерева.
— Конечно, ты не ожидал, что мне двадцать восемь лет, что у меня муж и большой сын.
Потом она взяла его за руку, откинула волосы со лба и весело сказала:
— Вот и хорошо. По крайней мере, теперь мы знаем кое-что друг о друге.
— Побежали, — сказал он. — Это гудят нам.
— Прочтите-ка вслух, Андрей, — повторил Николай Семенович.
Я взглянул на портрет в книге, сравнил его с оригиналом и прочитал вслух краткую дарственную подпись:
«Единомышленнику, сподвижнику, преемнику А. Березкину. Н. Гривнин. II тысячелетие н. э., 31 августа».
— Не будем размениваться на годы, — сказал Николай Семенович. — В текущем тысячелетии жду от вас повесть или роман.
— А что, если я не верну долг?
Ни искушающая улыбка Николая Семеновича, ни его манера говорить не действовали более — как яд, к которому успел привыкнуть со временем.
— Полагаю, Андрей, — сказал Николай Семенович, не обращая внимания на мой тон, — надеюсь, что теперь вы захотите написать о своем приезде в Лукино. О вашем саде, об отце и райских кущах, о возвращении в страну детства.
— Хватит вам мучить мальчика, — сказала мама. — Пошли в дом.
Из комнаты на веранду вышла бабушка, смущенная и немного искусственная, как всегда, когда приходят гости, поскольку ей уже трудновато сразу, в одно мгновение, забыть ноющую боль в ноге, только что случившееся головокружение, тяжесть всех своих восьмидесяти пяти лет, быть легкой и приветливой, как пятьдесят пять лет назад в Баку, когда этот молодой человек в шляпе, корреспондент местной газеты, потом режиссер и драматург Рабочего театра приходил к ней в гости. Но и до сих пор по праву старшинства она, протягивая при встрече руку, чуть покровительственным тоном говорит ему:
— Здравствуй, Николай.
«Молодой человек» снимает шляпу, склоняется к ее руке, целует, и что-то робкое, покорное появляется в его лице.
— Как поживаешь, Сонюшка?
— Хорошо, Николай. Я всегда хорошо.
Мягкое выражение лица, несмотря на жесткий характер всей кочевой, неустроенной жизни, редкое выражение в таком возрасте, присущее только самым сильным, добрым, жизнелюбивым, и так трудно определить его словами, подыскать точный эквивалент.
Если же писать о детстве, как считает Николай Семенович, то бабушкин портрет должен занять в будущем повествовании центральное место. Вся сложность, своеобразие подобной задачи в том, что и мамино искусство, и лукинский писатель Н. С. Гривнин, и пишущий эти строки — весь мир, окружающий нас, как в фокусе, сходится в бабушке. Это отзвук ее талантов, страстей, привязанностей, противостояний, генетический кроссворд, который не так-то просто разгадать. Короче говоря, я еще не готов, не знаю, как за это следовало бы взяться. Что-то еще должно прийти ко мне, помочь найти нужные слова. Потребует ли это отречения от родственных чувств, которые сейчас заставляют меня смотреть на нее под определенным углом и видеть в постоянном ракурсе любви и привязанности? Тогда, может, я в самом деле нырну в эту тему, а пока думаю о подступах к ней и о частых наших непримиримых политических спорах.
Мой натиск она выдерживает обычно с достоинством мушкетера, а потом, взволнованная, не спит всю ночь. Я раскаиваюсь жестоко, ощущаю себя почти убийцей, и все-таки мы вновь возвращаемся на прежние орбиты, должно быть оттого, что если свойственно людям любить друг друга, то они непременно доводят свое чувство до исступления, безжалостно бередя раны свои и тех, кого любят. Они вкладывают в свое чувство всю горечь проблем и сомнений, которые составляют основной предмет их духовной жизни.
Именно наши споры убеждают меня в ее совершеннейших человеческих качествах: верности, постоянстве и цельности внутреннего мира, который загадочен для меня, далек от моего собственного, но который я не могу не уважать в ней.
Створки раскрытых окон веранды поскрипывали на ветру, дом временами наполняли влажные садовые запахи, и на какое-то мгновение казалось, что вернулся май, жаркие шары одуванчиков заполонили землю, и скоро придет настоящее лето с ярко-зелеными жирными папоротниками, паутиной и вечерними запахами июньских трав.
— Слышал, какие успехи у нашего Андрея? — спросила бабушка.
Мама потрепала меня по щеке. Жест получился искусственным. Не столько даже фальшивым, сколько совсем неуместным.
Я вышел в сад. Деревья нежились в лучах уже неяркого солнца, боясь шелохнуться. Сад замер. Только над шпалерой кустов возле калитки промелькнула вдруг черная кепка и послышалось монотонное шарканье ног по земле. Я почти догадался, кто это мог быть, когда она пересекла стволы сливовых деревьев, приближаясь к зарослям жасмина.
«Ангел-хранитель, — подумал я. — Старый ангел, исполняющий роль мужчины в этом женском раю».
— Дядя Захар пришел, — шепнула Маринка и добавила по секрету. — Пьяный.
Я долго ждал, когда, наконец, появится обладатель кепки в поле моего зрения, а он все не появлялся, словно бы затаился и тоже ждал. Лишь однообразные звуки, чем-то напоминающие звуки пилы, перепиливающей бревно, свидетельствовали о продолжающемся движении.
Несмотря на однообразный ритм, движение было многолико и возникало в памяти как рука с молотком, заколачивающая гвоздь, устало сложенные на коленях руки. И руки на веслах. Я вспомнил впервые увиденное с лодки озеро, белые лилии и кувшинки, прыжки рыб на засыпающей глади, заходящее солнце, выглядывающее из-за ладони облака, как лампа из-под абажура, скрип днища о камыши и мошкару, точно клубок дыма после выстрела. И рядом дядя Захар на веслах. Все это было каким-то непонятным образом связано теперь со звуком распиливаемого дерева. Отец, как всегда, возился в саду, и обещанное им путешествие по озеру так и не состоялось, если бы не случайный приход дяди Захара по поводу продажи досок, предложение сходить на озеро и неожиданное согласие мамы. И вот мы уже за пределами сада, провожаемые завистливым лаем Дика, которого впоследствии, уже при Голубкове, Захар сам и похоронил.
…Он появился из-за поворота неожиданно — согбенный старик с хитроватым лицом Саваофа, как неожиданно кончается монотонный тоннель и машина вырывается вдруг из темноты на волю со скоростью света при скорости семьдесят километров в час. Никогда не глаженные штаны, стоптанные ботинки, потертый, лоснящийся пиджак с оттопыренными карманами, кепка, которую я помню столько, сколько помню себя, сгорбленная фигура и тяжелая, заикающаяся походка. Словно само время вдавило его лицо внутрь, сморщило, избороздило, как топографическую карту, сетью морщин, окончательно отобрало некогда милостиво данное, но потом растраченное.
— Зачем убежала? — ворчливо сказал он, обращаясь к Марине, словно бранил дочку, а заодно и ко мне: — Здоро́во, Андрей, — точно последний раз мы виделись с ним вчера, и протянул свою грязную, вялую какую-то руку.
Он извлек из карманов маленькие яблочки, которые сорвал, должно быть, в писательском саду, и разложил на скамейке.
— Ешь.
— Запретный плод? — пошутил я.
— У-угощаю, ешь. Как поживаешь?
— Ну, — неопределенно сказал я.