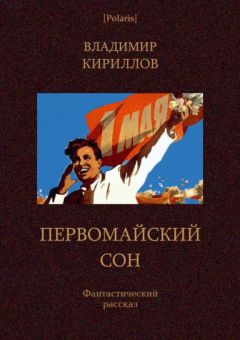Мне оставалось только замолчать.
Уинстон решительно надвинул на голову фуражку, спрятал в карман платок и, не попрощавшись с нами, вышел из хаты.
Миня вздохнул и углубился в свою работу. Разыскав в своем фотохозяйстве длинный кусок шпагата, он протянул его из угла в угол и деревянными зажимами для белья начал прикреплять к нему промытую пленку. Вдруг он бросил зажимы на стол и выбежал из избы. Я услышал его голос со двора.
— Уинстон, не будь дурнем! — кричал Миня. — Лучше было б вам вдвоем… Или подожди до завтра, поедешь со мною!
Ответа не было слышно. Миня вернулся в избу и опять взялся за свои пленки.
— Даже не оглянулся. Плохо, когда человек дурак. Еще попадет в какую-нибудь беду. Он же впервые на фронте.
Я тоже начал собираться в дорогу. Мне обязательно надо было закончить очерк о разведчике Иване Перегуде.
9
Снаряды летели через окоп, перекрытый тонкими кривыми бревнами, и разрывались с грохотом и звоном между деревьями опушки. Слышно было, как с треском и хрустом, словно выворачивались суставы у очень большого и очень терпеливого существа, падали убитые наповал осины и березы, прощально прошумев молодой листвой. Меж бревен, что перекрывали окоп, на голову и плечи Варваре сыпалась земля, мелкая сухая пыль, перемешанная с какими-то корешками. Из лесу отвечали наши батареи, гудение снарядов перекрещивалось над окопом, и во время такого скрещивания дрожание воздуха нарастало то на высокой, то на очень низкой ноте и исчерпывалось звуком далекого или близкого взрыва, в зависимости от того, где и чей снаряд разрывался: немецкий на опушке или наш за рекою, в садах села, из которого немцы вели обстрел наших позиций.
Варвара, упав в окоп, пригнулась у самого входа, так что только голова и плечи ее уходили под перекрытие, а вся она оставалась ничем не прикрытой, и эту свою неприкрытость, беззащитность чувствовала всем позвоночником, в который словно ввинчивалось гудение снарядов.
За долгое время лежания в госпитале Варвара отвыкла да, по правде говоря, никогда и не могла привыкнуть к неистовым звукам боя, к пронизывающему свисту и гудению, наполняющему небо, к тяжелым ударам железа, которым не предвиделось конца. Ежеминутное содрогание и вибрирование земли отзывалось в ней так, словно она и земля были продолжением друг друга, словно и ожидание ударов и та страшная боль, которую они причиняли, была у них общей, словно общим для них был и тот похожий на стон глубокий вздох облегчения, который вырывался из их общей груди после каждого удара.
Варвара знала войну с первого дня. С первого же дня войны, где бы она ни была, всюду ее сопровождало чувство личной причастности не только к страданиям миллионов людей, втянутых в неумолчный водоворот событий и катастроф, называемый войною, но и к страданиям всего мира вещей, растений и животных, что окружают человека, живут и страдают, борются и побеждают или же гибнут вместе с людьми.
Варвара умела только фотографировать; педагогический институт, где она училась, окончить ей не удалось. Маленький журнальчик, в котором Варвара печатала свои снимки, в первые же дни войны прекратил существование. То, что в другое время представляло бы почти непреодолимую трудность, осуществилось с удивительной легкостью. Варвара пришла в редакцию специального иллюстрированного издания, рассчитанного на солдат действующей армии, и сказала, что хочет поехать на фронт. Оказалось, что ее знают по снимкам, которые ей иногда удавалось помещать в большой прессе. Варваре выдали документы, и в тот же день она уже тряслась в редакционном грузовике по дороге на Смоленск. Все это вспоминалось теперь как очень далекое и очень обычное начало дороги, которая с течением времени становилась все более грозною. То, что Варвара была дважды ранена — впервые на Волоколамском шоссе и во второй раз по дорого на Котлубань, — не имело большого значения. Жизнь не кончилась, она стала иной; иною становилась и Варвара. То, что казалось невероятным вчера, сегодня было простым и само собой разумеющимся. Спать на земле, ходить в солдатских шароварах и сапогах, не бояться налетов авиации и артиллерийского обстрела… Кстати, как гремит! Если это надолго, то дело совсем плохо. Надо было не засиживаться у генерала, а идти прямо в полк, тогда она успела бы все сделать до этого обстрела.
Глаза Варвары постепенно привыкли к серой полутьме, которая царила в окопе.
Собственно говоря, это был не окоп, а скорей узкий блиндажик, перекрытый бревнами, поверх которых насыпан был тонкий слой земли. В блиндажике сидели два телефониста и смуглый майор, попавший сюда, вероятно, так же как и она, чтобы пересидеть обстрел. Лейтенант Кукуречный, перекатившись через ноги майора и телефонистов, устроился в углу. Он прислонился спиной к узкой стенке блиндажика и сидел, втянув голову в высоко поднятые худые плечи. Телефонисты, не прислушиваясь к обстрелу, наклонялись над зеленой коробкой телефона, время от времени продували мембрану и выкрикивали позывные, проверяя исправность линии; эти позывные звучали в блиндажике, над которым все время летели снаряды, какой-то печальной шуткой.
— Ландыш! Ты слышишь меня, Ландыш? — кричал в трубку телефонист с нашивками сержанта, кричал и все время озирался на своего товарища, белобрового молодого солдатика, который низко пригибал голову каждый раз, как над блиндажиком пролетал снаряд. — Какого черта ты молчишь, Ландыш? Ага, наконец откликнулся… Гремит! А у нас, думаешь, не гремит? Слушай меня, Ландыш! У тебя есть связь с Сиренью? Нет? Так попробуй связаться через Папоротник…
Сержант помолчал немного, посмотрел на солдатика и передал ему трубку. Солдатик испуганно и восхищенно глядел на сержанта; тот, вдруг посерьезнев, собрав в морщины загорелый лоб и обдернув гимнастерку, начал пристраивать на стриженой голове полинявшую пилотку.
— Чего ты вытаращился на меня, Костюченко? — прикрикнул на солдатика сержант. — Впервой мне, что ли? Ты тут смотри! Я скоро.
Он бросил на плечо брезентовую лямку катушки с проводом и, обращаясь к Варваре, сказал:
— Новенький он, этот Костюченко. Из пополнения, не привык еще к нашей музыке.
Наверное, ему очень трудно было вылезать из укрытия, каким бы ненадежным оно ни было. Сержант оттягивал то мгновение, когда ему в конце концов придется вылезть на кукурузное поле, на котором с неровными промежутками рвались снаряды.
— Ну, а в случае чего, — сказал сержант, — тогда уж придется тебе, Костюченко… Помнишь все, что я тебе рассказывал?
— Помню, — шевельнул побледневшими губами солдатик.
Еще раз передвинув обеими руками пилотку с затылка на лоб и снова на затылок, сержант вылез из блиндажика, больно прижав при этом Варвару к стенке.
— Эх, мама рόдная! — услышала Варвара веселый голос сержанта уже над блиндажиком, в котором теперь стало просторней.
Зашуршал и загудел в воздухе тяжелый снаряд. Смуглый майор ухватил за руку и молча потянул Варвару под перекрытие блиндажика, как-то странно при этом на нее посмотрев.
Новый снаряд разорвался совсем близко. Не успел еще отгреметь взрыв, как над головой Варвары что-то зашуршало, обдавая ее теплым ветром. Невольно закрыв лицо руками, Варвара втянула голову в плечи и зажмурилась. Все смолкло, и в тишине послышалось мягкое воркование. Варвара удивленно стала прислушиваться, все еще с закрытыми глазами. Спокойное воркование, от которого на душе становилось неожиданно легко и радостно, не прекращалось. Варвара открыла глаза и увидела вблизи от себя лицо белобрового солдатика — оно расплывалось в детской улыбке. Не отрывая трубки от уха, солдатик смотрел куда-то под бревна перекрытия и говорил, медленно шевеля большими мальчишескими губами:
— Вернулся, гуленька… Нашел дорогу, молодец!
Варвара проследила за взглядом солдатика и увидела высоко в стене окопа, под самым перекрытием, аккуратно выкопанную небольшую нишу — в ней стояла низенькая жестянка из-под консервов и кучкой лежала каша-концентрат. Белый, с рыжеватыми перьями на крыльях голубь пил воду из жестянки. Напившись, он затоптался мохнатыми лапками и заворковал, поглядывая на людей круглым, блестящим, как бусинка, глазом.
И все смотрели на голубя. Белобровый солдатик Костюченко радостно кричал в трубку, не сводя с него восхищенных глаз.
Майор сдержанно улыбался. Он вообще вел себя под обстрелом так, словно был совсем равнодушен к опасности. На гудение и разрывы снарядов он не обращал внимания, только иногда склонялся подбородком на неудобно поднятые колени, а потом снова поднимал голову и смотрел на стенку блиндажика перед собою.
Даже Кукуречный, который, казалось, хотел слиться с землею, врасти в нее, весь серый от смертной тоски, делал попытки улыбнуться, хотя улыбка у него выходила несмелая, похожая на гримасу испуганного ребенка.