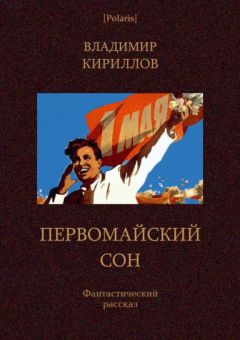— Сидит! — усмехнулся недоброй усмешкой Лажечников, отклоняясь от окуляра.
Впереди раздался ясный звук пушечного выстрела. Сразу же за ним второй и третий. Снаряды прогудели над головой и разорвались в лесу. Пронзительно и тоскливо заржал где-то за спиною у Лажечникова конь, и чей-то раздосадованный знакомый голос прокричал на высокой ноте:
— Ах, дьявол, прямо в кухню, ну прямехонько в кухню попал!
Конь снова заржал, словно крикнул от боли, и устало затих.
Немцы били с закрытых позиций за селом, Лажечников хорошо знал, где стоят их батареи, — они были у него давно нанесены на карту. Он мог бы дать приказ ответить огнем на огонь, но не давал такого приказа, так как считал, что обстрел вызван только тем, что наблюдатель с колокольни заметил на обрыве храброго майора из третьего эшелона, — выбросят несколько снарядов и утихнут. Но обстрел усиливался, и это беспокоило Лажечникова.
Лажечников приказал телефонисту соединиться с капитаном Жуком; гитлеровцы обстреливали его обрыв, но атаковать могли только на плацдарме.
«Хоть тот майор и храбрый дурак, — подумал Лажечников, — но тут он не виноват».
В трубке уже слышалось усиленное мембраною тяжелое дыхание капитана Жука.
— Что у тебя слышно, Жук? — пригнувшись к телефонной трубке, крикнул Лажечников.
— Хорошая погода, не капает, — по своей привычке слегка иронизируя, ответил Жук, и Лажечников представил себе, как при этом шевелятся усы командира батальона и сверлят воздух его колючие черные глазки. — Не знаете, что он задумал?
— Он мне не докладывал, — в тон Жуку ответил Лажечников. — Гляди в оба, понятно?
Снаряды летели через кручу, но теперь разрывались уже не глубоко в лесу, а все ближе и ближе на поле — за спиной Лажечникова, словно немцы поставили себе целью сровнять его НП с землей. Сырая земля и искалеченные кукурузные стебли падали в окоп. Лажечников сидел, прижавшись спиной к стенке окопа, и выжидал.
— Ложитесь, товарищ полковник, — дернул его за рукав телефонист.
Лажечников глянул в его сторону и увидел, что солдат лежит на дне окопа, прикрыв животом зеленый ящик телефона. Характерный звук зуммера послышался из-под живота сержанта, и Лажечников не мог сдержать улыбки. Телефонист неловко вынимал из-под себя трубку. Лажечников сунул руку ему под живот, схватил теплую трубку и прижал к уху.
— Чего ждем? — шелестел в трубке голос командира артдивизиона капитана Слободянюка. — Прикажите отвечать!
Слободянюку недавно удалили верхние передние зубы — это была довольно смешная история, — капитан шепелявил и свистел в трубку.
— Скоро будут готовы твои зубы, Слободянюк? — с деланным сочувствием спросил Лажечников.
— При чем тут мои зубы? — обиженно зашепелявил Слободянюк. — У меня двух солдат убило, что ж мы, молчать ему будем?
— Ну что ж, Слободянюк, дай им жару, — сказал Лажечников и снова пригнулся к окуляру стереотрубы.
На левом фланге громыхнули пушки Слободянюка, и сразу же Лажечников услышал, как снаряды начали взрываться за селом, там, где были расположены артиллерийские позиции немцев. Немцы ответили оглушительным залпом. Артиллерийская дуэль завязывалась надолго.
Лажечников, глядя в стереотрубу, вдруг увидел, что зеленый купол колокольни, на котором косо торчал ажурный, некогда позолоченный, но давно облезший крест, качнулся и засиял большою щербатой пробоиной, сквозь которую блеснуло беловато-синее небо… Крест еще больше покосился.
— Молодец, капитан, — шевельнул губами Лажечников и увидел, как новый снаряд вырвал дощатый щит, который закрывал проем под сводами колокольни, там, вверху, под самыми колоколами, где сидел немецкий корректировщик. — Молодец, Слободянюк!
На миг артиллерия с обеих сторон затихла, и в тишине, которая окутала лес, луга и село, послышалось беспорядочное звяканье малых и больших колоколов. Меткий выстрел артиллеристов Слободянюка раскачал их на колокольне, теперь они беспорядочно трезвонили, и звон этот постепенно угасал… Артиллеристы словно прислушивались к этому угасающему звону, а когда он совсем замер, снова с обеих сторон ударили пушки, снова навстречу друг другу через обрыв полетели снаряды и начали разрываться за селом и в лесу.
8
Из записок Павла Берестовского
Бритоголовый капитан, которого фотокорреспондент Миня называл Уинстоном, работал в центральном аппарате редакции и впервые за все время войны прибыл на фронт, прибыл с глубоким убеждением, что все мы тут работаем не так, как должны работать, во всяком случае не так, как работал бы он, если б на него были возложены те обязанности, что должны выполнять безответственные люди, которые называются специальными корреспондентами, носят фронтовые погоны, жрут фронтовой паек, а обеспечить свою газету в нужное время нужной информацией не способны.
— Корреспондент не должен отрываться от узла связи! — глядя на меня, грозно сказал капитан, когда мы сошлись утром за длинным столом в Людиной избе. — Что вы думаете делать сегодня?
Я еще ночью решил убраться подальше от мутных глаз Уинстона.
Если бы не очерк об Иване Перегуде, я поехал бы в дивизию Костецкого. Никто меня там не знает, вряд ли остался кто-нибудь из бойцов сорок первого года, кто мог бы меня помнить, о Костецком и говорить нечего — он был тяжело ранен на Трубеже, а до этого я видел его всего один раз, да и то издали, — все равно меня тянуло в дивизию Костецкого. Только чувство служебного долга заставило меня отказаться от несвоевременного желания искать следы прошлого.
— Поеду в хозяйство Лаптева, — ответил я на повторный вопрос капитана.
Капитан посмотрел на меня похожими на студень на тарелке мутными глазами и, ничего не сказав, начал собираться в штаб. Он надел новенький серый плащ из прорезиненного материала, который топорщился на нем во все стороны и от каждого движения трещал, как шаровая молния. Бритый, весь в шишках и царапинах, череп его исчез под новенькой фуражкой, большая полевая сумка, набитая газетами, тетрадями и карандашами, очутилась на боку, и, треща, шурша, стреляя своим плащом на каждом шагу, он пошел к дверям.
— А эта Княжич тоже поехала к Лаптеву? — вдруг остановился капитан в дверях и повернулся ко мне лицом.
Я, должно быть, попортил бы ему новую фуражку, если б не вмешался неожиданно Миня, он прокручивал пленку в черном бачке, примостившись на краю стола под образами.
— Уинстон, — закричал Миня, еле сдерживая хохот, — стой и не шевелись, я тебя сейчас увековечу!
Миня схватил свой «ФЭД», и не успел Уинстон опомниться, как дважды щелкнула шторка и удовлетворенный Миня вернулся к своему бачку.
— Можешь идти, Уинстон, — сказал Миня. — Уверяю тебя, это будет необыкновенный снимок: такого идиотского лица я еще ни у кого не видел!
Уинстон хлопнул дверью так, что глина брызнула на пол.
— Эх, жаль, — покрутил головою Миня, — жаль, что в аппарате нет пленки! Снимок был бы действительно чудесный… Вы видели когда-нибудь такого самоуверенного индюка?
— А почему он Уинстон?
— Это я его так прозвал для смеха, никакой он не Уинстон, а просто себе Иустин Уповайченков, кажется из псаломщиков… Видали фигуру?
Я посмотрел в окно и увидел Уповайченкова: он гордо шел посреди улицы в своем жестяном плаще, поднимая тучи пыли кривыми ногами, обутыми в большие сапоги с низкими голенищами.
— Вы не обращайте на него внимания, — продолжал Миня. — Он и мухи не обидит. Не от доброты, а оттого, что считает муху способной кусаться.
— Так что ж он, трус?
Миня посмотрел на меня жаркими, похожими на маслины глазами, словно проверяя мои умственные способности: неужели мне все еще непонятно, кто да что этот Уинстон? Приходится только сожалеть, что таким поверхностным типам, не умеющим разбираться в людях, доверяют ответственную корреспондентскую работу. Должно быть, он так и отрубил бы, скорчив сочувственную гримасу на своем красивом лице, но тут в избу вбежал растрепанный Кузьма и еще с порога крикнул:
— Людка, где ты там?
— Я тут, — отозвалась за перегородкой Люда.
— К тебе Аниська пришла, выйди…
Кузьма стоял на пороге, лохматый, похожий на цыгана загорелым неумытым лицом, и сверкал на меня глазами, словно сигнализируя одному ему известную тайну: что Людка, что эта Аниська — одного поля ягоды, он знает им цену и от всей души презирает их.
— Так пускай зайдет в избу, — нехотя отозвалась Люда за перегородкой.
— В избе, говорит, офицеры.
Кузьма уже не сводил глаз с Мини, с его черного бачка, с разложенных на столе фотографических принадлежностей.
— Подумаешь, — не то удивленно, не то пренебрежительно вслух рассуждала за перегородкой Люда, — подумаешь, офицеров не видела? Съедят ее офицеры?