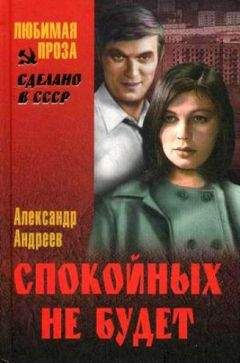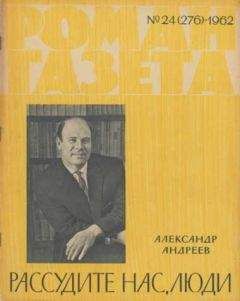— Илюха,— говорил Серега Климов, держась за отвороты пиджака Ильи Дурасова,— я тебе друг. Ты знаешь, что я тебе друг по гроб жизни! Ты в прорубь головой — я за тобой. Вот как! Потому что люблю...
Илья ковырял вилкой холодную котлету.
— Отцепись, Серега, пиджак помнешь. Хорош ты друг, если сбежать хотел прямо с дороги. Товарищ называется...
— Вспоминаешь? Печальный факт в моей биографии, единственный, вспоминаешь. А ты про хорошее вспомни.
— Хорошего-то у тебя больно мало,— хмуро сказал Илья.— Зачем Алешку Токарева обидел? Потому что пакость уже не умещается в тебе, надо на кого-то вылить.
Серега вскрикнул, обиженный, кривляясь:
— Подумаешь, персона! Слова сказать нельзя. За кого заступаешься-то? Ну ладно, я сказал не то, вообще не надо было ничего говорить... Да еще при генеральском сынке. Ну, я виноват. Хочешь, пойду повинюсь перед ним? Хочешь?
— Хочу.
Серега стремительно вскочил и очутился возле меня.
— Алешка,— сказал он, оглядываясь на Илью,— я винюсь перед тобой. Я свинья, я не смел тебя тревожить в такой момент, даже напоминать не смел. Ты меня простил?
— Простил, Серега,— сказал я.— Все в порядке.
— Видишь, Илюха! Он же настоящий друг. Давай поцелуемся, Алеша...— Он звонко чмокнул меня в щеку и отодвинулся опять к Илье Дурасову.
Катя спросила:
— Что у вас было, Алеша? Вы поссорились? Из-за чего? Он тебя оскорбил?
— Чепуха. Мало ли что может быть между людьми, когда они долго живут вместе — в комнате или в палатке — и успели друг другу надоесть!..
Она помахала пальчиком перед моими глазами.
— О, ты что-то скрываешь! Ох ты и хитрый, Алеша! По глазам вижу. Потанцуем немного?
Мы вылезли из-за стола, вступили на «пятачок», где толкались, задевая друг друга, танцующие. Было жарко, шумно и тесно. Столовая напоминала корабль, который сорвался с якоря и пошел, покачиваясь, по волнам, вольный и сверкающий, сквозь тайгу, сквозь стужу, сквозь ночь...
Трифон не переставал играть, отрывал пальцы от клавишей только за тем, чтобы взять стакан и отхлебнуть вина. Анка сидела рядом и платочком смахивала с его лба, из под крутой медной пряди, крупные капли пота. В коротенькую паузу, пока Трифон промачивал горло, Анка подступила к нам и попросила меня:
— Алеша, потанцуй со мной. Извини, Катя...— Она грубовато взяла мою руку и положила себе на плечо; отдалившись немного от Кати, она спросила строго: — Ты всерьез ею увлекся?
— С чего ты взяла?
— Я все замечаю, можешь быть уверен. Ты сказал ей, что женат?
— Зачем?
— А чтобы она не питала надежд. Ты ей нравишься, я это вижу.
— У нее жених есть. В армии. Скоро приедет сюда.
— Жених далеко, а ты рядом.
— Как ты можешь о ней так нехорошо думать, Анка?
— Я о ней очень хорошо думаю, Катя замечательная. Но ты тоже не плох.
— Она мне нравится. Но как-то по-другому, как товарищ, что ли...
— Она тебе — как товарищ, а ты ей — как парень, мужчина. Вот и скажи ей прямо, откровенно. А если духу не хватает сказать, значит нравится не только как товарищ. И я не удивлюсь: она не может не нравиться. Но тогда напиши Жене, расскажи ей все начистоту, пускай и она чувствует себя свободной.
— Она, я думаю, и так свободна.
Анка, откинувшись, взглянула на меня как бы издалека.
— Нехорошо сказал. Выходит, мало ты ее знаешь, Женю, хоть и считаешься мужем.
— Вот именно, считаюсь.
— Опять нехорошо сказал.— Анка вздохнула как будто с разочарованием.— Иди, Катя ждет. Скажи, что у меня голова закружилась.— Она оставила меня и пробралась сквозь толчею к Трифону.
— Чем она расстроена, Анка? — спросила Катя, когда я к ней вернулся.
— Просила, чтобы я повлиял на Трифона, винца тянет сверх меры.
— Что ты! Он пьет меньше других, я за всеми слежу. Тут что-то другое... Ах как жарко, тесно!..
— Выйдем прогуляемся,— предложил я.
— Выйдем.
Мы незаметно оделись и вышли на волю. Холод как будто поджидал нас за дверью, сразу же окружил, постепенно сжимая объятия. Небо застыло, черное, глухое, в тусклых звездах, задернутых реденьким туманом. Застыла тайга, тоже черная и глухая. Кажется, что и жизнь застыла. Лишь тончайший треск, как от пылающих поленьев, наполнял воздух. Катя взяла меня под руку и ознобно вздрогнула, то ли от стужи, то ли от волнения.
— Закрой рот шарфом, а то схватишь простуду.— Я поднял воротник ее шубейки, поправил шарф.
— Не кутай меня,— прошептала она.— Мне не холодно, мне как-то стеснительно, вот здесь, в груди. Распахнуться хочется, как весной...— Ее глаза, немигающие, яркие, точно две звезды, мерцали перед моими глазами и как будто чего-то искали во мне, чего-то ждали.— Пройдем к реке.
Она двинулась впереди меня, неслышно, точно скользила по снегу, мелькала среди черных стволов деревьев, то выплывая на свет, то теряясь в тени. На берегу сразу чувствуется, что жизнь не стоит на месте, не застыла. В реке шла не прекращающаяся ни на секунду работа. Внизу, во тьме, сердито ворчала вода, омывая камни, и мороз не в силах был сковать ее льдом.
— Страшно как! — прошептала Катя, заглядывая с обрыва вниз, и сжала мой локоть.— Сорвался — и пропал! Я иногда думаю: идет, идет человек, как завороженный, видит перед собой протянутую руку, глаза, слышит голос: «Иди, иди ко мне». И человек идет. И вдруг не стало ни руки, ни глаз, ни голоса, а под ногами зыбкая жердочка над пропастью, неосторожное движение — потерял равновесие и полетел в бездну. Сердце захлебнулось — и конец.
— Ты так говоришь, Катя, будто с тобой это случалось.— Взгляд мой приковывала шумящая темнота под обрывом.
— Со мной нет,— ответила Катя.— Но с другими случалось... Сколько же ходит по земле несчастных девчонок, обманутых, брошенных, с растерянной верой, со слезами в душе!..
— А ребят? Думаешь, меньше?
— Ребята тоже есть. Но не столько. И им легче, они могут со зла, от обиды стиснуть зубы, а девчата нет. В несчастье у них слезы — помощники...— Помолчала немного, чутко прислушиваясь к ворчанию реки, и сказала: — Я тоже могу идти по жердочке, я себя знаю...— Повернувшись, она приблизила ко мне лицо.— Алеша, твое сердце занято?
Вопрос прозвучал неожиданно, с надеждой и непосредственностью, чистота и наивность его привели меня в замешательство, я даже отступил на шаг, натолкнувшись на сосну. Сняв варежку, я принялся зачем-то отковыривать пахучую чешую коры. Будь на ее месте другой человек, я, быть может, свел бы все к шутке. Но сейчас всякие шутки были бы неуместны и бестактны.
— Почему ты молчишь! Ты хочешь, чтобы я сказала первая? Могу: ты мне очень нравишься, Алеша, очень, я даже не знаю как...
Я поспешно остановил ее:
— Не надо, Катя. Пожалуйста.— Я не смел взглянуть на нее.— Вообще ничего не надо. У меня есть жена. В Москве. Я ее люблю.
— Ой, Алеша! — Она слабо вскрикнула и отшатнулась от меня к обрыву, и мне показалось, что еще шаг — и она сорвется и полетит в кипящую темень реки. Я с испугом схватил ее за рукав и оттащил, хотя до обрыва было еще далеко. Катя вырвала у меня руку и побежала в сторону палаток, в отдалении еще раз вскрикнула и пропала. Я остался один на безлюдном ночном берегу, по которому еще неуверенно, первыми пробными шажками шел новый и юный год.
ЖЕНЯ. Названов ввел меня в небольшую комнату, тускло освещенную настольной лампой, и притворил за собой дверь. В комнате сразу стало глухо и как будто тесно. В подошла к балкону и подставила лицо под форточку; в нее толчками текла морозная свежесть и холодила лоб; на площадке балкона, на решетке мерцал снег.
— Не простудитесь? — Приглушенный голос прозвучал возле моего уха: Названов стоял сзади меня, совсем близко.
— Я не боюсь.
Названов робко кашлянул — так кашляют, когда пытаются подавить сильное возбуждение, вызванное чем-то таким, чего надо опасаться или надо скрыть.
— Я часто думал о вас, представьте,— сказал Названов,— о ваших словах, о вашем характере, о вашей манере говорить... Когда вы в гневе, то делаетесь красивее, чем обычно.
— Значит, мне нужно все время с вами не соглашаться и дерзить?
— Пожалуйста. Я с удовольствием буду на вас смотреть... Но вы хороши и в мягкости своей, в женственности. Многообразие украшает...
Названов положил мне на плечи руки, они были горячи и тяжеловаты. Но я не сделала ни единого движения, чтобы освободиться от них; мне было приятно ощущать и их тяжесть, и их тепло; тепло как будто облило меня сверху донизу; я со страхом чувствовала над собой его власть — власть рук... Оторвав взгляд от голубоватого снега на балконе, я повернулась и встретилась с его глазами: они возбужденно светились. Только тут стал доходить до меня смысл того, что говорил Названов,— слова его пробивались ко мне, как сквозь густой туман.
— Человек живет для наслаждений... Любовь — это первооснова человеческого бытия. Любовь — это главный стержень, вокруг которого вращается вся жизнь человечества с его грехом и с его святостью, с его безднами и взлетами, с его гениями и посредственностями, с его страданиями и восторгами. Любовь — это в конечном итоге продолжение жизни на земле. Одна она бессмертна и разумна. Она заставляет наслаждаться всем, что тебя окружает. Картины, музыка, стихи, путешествия — все твое. Если ты захотел пить, а рядом бьет из земли родник, то тебе надо лишь нагнуться, зачерпнуть и выпить. Если растет цветок, то сорви его, поднеси к лицу или приколи к волосам. Не надо сдерживать порывы. Любовь за это мстит: высушивает душу, а душа подобна полю без влаги — покрывается трещинами. На нем вырастают не цветы, но сорняки. Душа, заросшая сорняками! Вы только представьте!..