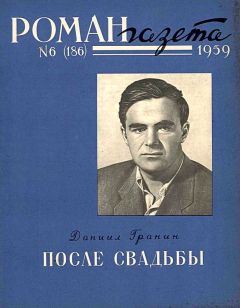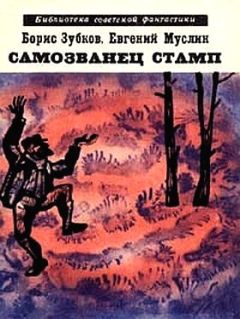В сущности, они старались ему помочь, найти какие-то оправдания. И он с признательностью потянулся к ним навстречу. Было так заманчиво считать причиной всего Тоню. И та доля правды, которая заключалась в этом, все больше казалась ему внушительной, решающей, — ведь он один принял на себя тяжесть борьбы, заслоняя Тоню от всяких тревог.
Тоскливо улыбнувшись, он покачал головой — нет, жена тут ни при чем. С мужской гордостью он утверждал свое одиночество, отказываясь от всякого сочувствия и легкой возможности вывернуться хотя бы на время. И сразу же жгучая жалость к себе охватила его. А тут еще кто-то гнусный и подленький внутри успел шепнуть: бей, бей на жалость, давай жми на слезу, это хорошо действует, не стесняйся, сваливай на Тоню, ей-то все равно.
Он ненавидел сейчас этот шепоток и самого себя. Так вот же, не будет никаких слез. Он не станет прятаться за Тоню, он не станет врать людям, которые хотят видеть его лучшим, чем он есть на самом деле. Они к нему по-хорошему, и он будет…
— Как ты расцениваешь постановления Центрального Комитета нашей партии? Касаются они тебя или нет? — это спрашивал Шумский.
Игорь отвечал размягченно, поглощенный своими переживаниями. Ведь он тоже вместе с Геннадием и Семеном обсуждал постановления о колхозах и радовался грядущим переменам, целую неделю он оставался вечерами в механическом, помогая налаживать обработку ступицы для жатки, сам вызвался, никто не просил. Ему понравилось, когда нескольких заводских коммунистов направили в колхозы — наши заводские там наведут порядок, — но теперь, когда его самого просили поехать, он все это забыл и думал лишь о том, почему именно он должен ехать, а не кто другой. То, что было правильно и хорошо по отношению к другим, применительно к нему самому казалось отчаянно несправедливым.
— Значит, вы против постановлений партии? — вдруг торжествующе заключил Воротов.
Игорь очнулся. То, что спрашивал Воротов, оказалось замаскированной западней. Воротов не старался убедить, что-то выяснить, ему надо было загнать Игоря в тупик, подвести к ловушке. Почувствовав это, Игорь напрягся, проклиная свою доверчивую размягченность. Воротову нет никакого дела до истинных чувств Игоря, он не возмущается, не презирает Игоря, он скорее даже настроен дружественно. Просто ему важно ловчее других, «правильнее», чем все другие, добить Игоря не из каких-то там убеждений, а потому, что ему хочется оказаться самым умным из членов бюро, самым «правильным».
— А если бы после техникума тебя направили в МТС?
— Так то по распределению, — осторожно сказал Игорь.
— А комсомол и партия тобой распоряжаться не могут? Тут ты несогласен, так выходит, — просто и почти благодарно произнес Воротов. Его, круглый рот с вытянутыми темно-вишневыми губами был похож на горлышко бутылки. Эту бутылку можно было наполнить чем угодно и наклеить на нее какую угодно этикетку. Левке легко и приятно поучать, ему небось никуда не надо ехать. Посадить сейчас на место Левки Игоря, он точно так же мог бы наставлять и поучать Левку, а тот изворачивался бы и отбивался, стараясь как-то вывернуться. Нет, Левка бы не поехал: Игорь достаточно знал его. Выходит, все зависит от того, на каких стульях сидим мы с Левкой. Сейчас Левка сидит на стуле члена бюро — он «сознательный», сяду я на его стул — я стану сознательным».
Игорь видел сейчас за столом только Воротова и слышал его одного.
Игорь смотрел на его довольную физиономию, не испытывая ни злости, ни обиды, было лишь единственное страстное желание спросить: а почему ты сам не едешь? Но ему показалось, что это прозвучит вызовом. И в том, что он заставлял себя сдержаться и не говорил так, как ему хотелось, он усматривал страшную несправедливость, он был один против всех, его ловили безошибочно бьющими вопросами, а он должен был молчать.
— По-моему, так уж расценивать нельзя, — смиренно сказал он. — Едут добровольно…
Наконец-то ему вспомнился один из заготовленных козырей, и он ухватился за него с цепкостью отчаяния. Призывают ехать добровольцев, тех, кто сам хочет, а если человек не хочет, его не имеют права заставлять насильно.
По улыбкам членов бюро он почувствовал, как неуклюже выглядела его уловка.
Секретарь райкома сказал:
— Как ты думаешь, если вступают в армию добровольцы, они потом в бою тоже делают только то, что захотят? Они, брат, уже подчиняются. Ты в комсомол вступал добровольно. Никто тебя не заставлял. А уж в комсомоле, будь добр, подчиняйся. Иначе разреши товарищам судить о тебе как о комсомольце.
Какой-то студент начал говорить о свободе как об осознанной необходимости, о том, что для Малютина идея не стала убеждением.
«Не то, все не то», — думал Шумский, следя за измученным лицом Малютина.
В нем боролись два разных чувства — он был доволен тем, что вызвал Малютина на райком. Все убедились, что случай действительно трудный, и заводской комитет вынес этот вопрос на бюро не из-за своей беспомощности. С другой стороны, чем больше упорствовал Малютин, тем серьезнее казался Шуйскому упрек, выслушанный им вчера от Юрьева. Шумский понятия не имел, откуда Юрьев узнал о деле Малютина, но он уже привык к тому, что Юрьеву известно почти все, что творится на заводе.
— Наказать Малютина должно собрание, — сказал Юрьев. — Что кривишься, не уверен, что вас поддержат? Какой же смысл тогда наказывать?
— Урок остальным.
— Напугать?
— А оставить безнаказанным еще хуже.
— Почему ж ты лично с ним не поговорил? Комитет… Это не всегда единственный путь. Иногда лучше посидеть вдвоем, с глазу на глаз.
— Может быть, за кружкой пива?
— Может быть, — серьезно сказал Юрьев.
— Ну, знаете ли… чем Малютин лучше остальных? Скольких ребят мы отправляли.
— Вот в этом-то и все дело. Ты рассуждаешь по-инженерному: какая машина быстрее выполняет задание, та и лучше. А люди бывают не только лучше и хуже, они бывают и другие.
У себя на комитете Шуйскому надо было преодолеть собственную нерешительность. Тогда он воспринимал поведение Малютина как вызов, Малютин был его личным противником. Сегодня Шуйский увидел Малютина как бы со стороны. И его все больше томило замечание Юрьева. А вдруг, если бы он лично поговорил с Малютиным, все повернулось бы по-иному? Бывают же разные люди, к каждому человеку нужен свой подход — это известная истина. Но какие разные, какой подход? Как узнать, чем именно можно пронять Малютина, чем отличается Малютин от остальных ребят? Ведь с виду парень как парень, поди залезь ему в душу. Парень как парень… стандарт парня; и он подумал, что в его представлении и в представлении кое-кого здесь, в райкоме, существовал некий стандартный парень-комсомолец, наш парень, советский парень, с набором обязательных качеств. Отклонения от стандарта были также предусмотрены: хулиганистый парень, пассивный парень, трепач… То есть по той же шкале: лучше и хуже среднего образца. И вот впервые Шумский задумался над тем, что, кроме этих удобных обозначений, существуют еще и другие, более сложные, и, кто знает, может быть, Малютин такой сложный характер, с которым надо обращаться как-то по-иному. Шумский не знал, как именно, но то, что говорили здесь, на райкоме, все это были не те слова. Он чувствовал: говорят так оттого, что он сам в начале заседания охарактеризовал Малютина по стандарту, и членам бюро неоткуда знать о нем больше, они поверили ему, Шуйскому. И даже секретарь райкома, умный и чуткий парень, который поддерживал Шумского с какой-то скрытой неохотой, все-таки поддерживал.
Из приемной пробивался многоголосый шум целинников. К нему привыкли, но в наступившей паузе Игорь вдруг прислушался к тому, что творится за дверьми. Он почувствовал на себе внимательный взгляд Шумского, глаза их встретились.
— Как ты думаешь, почему они едут? — спросил Шумский.
«Так то ж на целину», — хотел сказать Игорь, но вместо этого фыркнул, накопленное усталое раздражение прорвалось в нем.
— У кого что… У кого жилплощади нет, кто женихов ищет, — сказал он и зло и насмешливо, и вдруг услышал, что говорит тем же тоном, теми же словами, какими говорил тот, вислоносый железнодорожник.
— Эх, ты! — презрительно сказала девушка с волосами, похожими на Тонины. — Обыватель ты. Типичный обыватель.
Игорь почувствовал, как неудержимо краснеют его шея, щеки. Он попытался вспомнить что-либо из заготовленных, очень умных, ловких ответов, но все куда-то пропало, растворилось в усталом безразличии.
— А если так вопрос встанет: не едешь — значит, недостоин быть в комсомоле? — медленно сказал секретарь райкома.
— Это неправильно будет, — пробормотал Игорь.
— Ты брось, ты не финти! — вдруг закричал Шумский. — Ты отвечай прямо!
Этот окрик был как протянутая рука помощи, но Игорю было уже все равно, он устал.