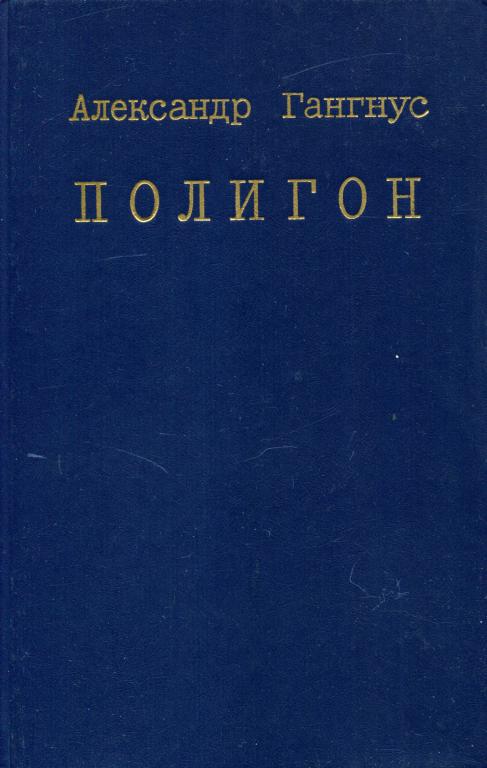а может, и вовсе новое, никогда еще не соприкасавшееся с белым светом. На одном из этапов этого оттаивания сам собой всплыл вопрос о совместном броске куда-то далеко.
Вадим все чаще рассказывал Свете про дальние экспедиции, в которых прошли его детство, юность и первая молодость. Тюмень, Забайкалье, Тикси, Казахстан, Урал. Света слушала, спрашивала, завидовала. Постепенно эти разговоры превращались в планирование того, как это у них, вместе, будет. Вадим уволился из журнала, перейдя на ставку к Крошкину, но и это было не то — в две-три короткие командировки он съездил один, что ему не так уж и понравилось. Тут и подоспел бывший симбионт Женя со своим предложением насчет обсерватории. Это было как раз то, что нужно.
Света задерживалась в Москве из-за процедуры увольнения с прежней работы, для школьного учителя это оказалось более сложным, чем для академического эмэнэса. Наконец, пришла долгожданная телеграмма. Ее принес утром Эдик вместе с готовым командировочным удостоверением на три дня в Душанбе:
— Ну, встречай свою ненаглядную. Наконец-то. Вон с лица спал весь, как истомился.
А Женя Лютиков затуманился, запечалился, завздыхал о том, как судьба развела его в разные стороны с Леной, Вадимовой кузиной, и о своем нынешнем печальном одиночестве, которое, возможно, продлится до самой его, Жениной, смерти. Но Вадиму некогда было его слушать. Он рвался в аэропорт — Света прилетала в Душанбе завтра, но на месте не сиделось, нужно было действовать, бежать.
Через два часа он уже бродил по Душанбинскому базару, в огромном количестве закупая дыни, арбузы, виноград, соленые косточки урюка и еще всякую вкусную всячину, чувствуя себя восточным владыкой, которому надлежит встретить по первому разряду и накормить сказочно свою заморскую невесту. Принес все это, корячась, на перевалочную базу обсерватории в Душанбе к Анне Яковлевне и снова побежал в город, вспомнив, что забыл купить, заполняя деятельностью время, чтобы обезболить, рассосать чудовищное нетерпение, превращавшее минуты в часы. И вечером долго не мог уснуть, на все лады представляя себе, предвкушая завтрашнюю встречу.
…О внешности и прочих достоинствах своей первой жены Вадим не задумывался, потому что это его не интересовало в полном соответствии с основными принципами его тогдашней идеологии. О внешности Светы Вадим сразу, еще вначале решил, что если и есть кто-то прекрасней, то где-то за морями, потому что не попадалось. Да и сейчас, после двух лет совместной жизни, знакомя жену с кем-нибудь, проявлял нечто вроде конфузливой предупредительности: демонстрируя Свету, он уже тем самым как бы хвастал своим дьявольским везеньем, а хвастать нехорошо. Перед женщинами же было просто постоянно неудобно, приходилось подчеркнутым вниманием компенсировать их заведомый, безнадежный, на его взгляд, проигрыш рядом с красавицей женой.
Сейчас, когда Света показалась наконец наверху трапа (московский самолет подали к самому аэровокзалу), рядом со стюардессой, вполне до этого момента привлекательной, хорошенькой, Вадиму было немного странно, почему все вокруг не затихли, не застыли, пораженные, не упали в обморок, наконец. Потому что сверху спускалась, издали улыбаясь не кому-нибудь, а ему, Вадиму, вся красота мира, и это была его, Вадима, законная жена!
1
Проведя переаттестацию Волынова и назначив Чайку начальником камералки, Саркисов собрался в Москву. Об этом сообщил Свете и Вадиму Женя во время очередного вечернего чаепития.
— Я ему: «Как же вы уезжаете, Валерий Леонтьевич, ведь выборы на носу? Неужели, говорю, вы думаете, что меня и Орешкина удастся провести без вашего нажима? Для чего тогда сыр-бор затевали?»
— Ну, а он? — Вадим поморщился. Ему вся эта затея продолжала не нравиться, да и не хотелось ему, по правде, ни на какую общественную работу, ничего не хотелось, что могло оторвать от письменного стола.
— Знаешь, со старичком нашим что-то происходит. Я еще тогда, на переаттестации Волынова, заметил. То ли больной он, то ли о душе своей бессмертной задумался. И то и другое — не ко времени. Потом, говорит, потом, а что потом, когда потом — уж раз пять этим «потом» и меня, и Эдика отфутболил.
Эдик оказался легок на помине. Постучался и вошел. Разулся у вешалки, прошел в носках к столику.
Орешкины недолго прожили в двухкомнатной квартире, где у них не было ничего, кроме пары спальных мешков на полу. Когда закончился ремонт однокомнатной квартиры, они переехали туда и постепенно, с помощью Жилина и Эдика, собрали кое-какую мебель — диван, письменный стол, стул. Проблему обеденного стола решили просто и в соответствии с местным национальным колоритом поставили низенький топчан, объявили его — не совсем точно — дастарханом, накрыли клеенкой, опоясали со всех сторон длинным узким таджикским ковриком-курпачой, на который садились сами и сажали гостей при чаепитиях и трапезах. Всем очень понравилось, в том числе и гостям, на полу было прохладно и как-то особенно уютно и непринужденно, а обувь здесь и без того было принято снимать — этот восточный обычай быстро перенимали все приезжие.
Итак, Эдик разулся, занял свое, уже постоянное место на курпаче и одним махом осушил налитую Вадимом пиалу зеленого чая.
— Уф. В горле пересохло. Час с преподобным нашим препирались. Ничего не добился. Его кто-то накрутил, точно говорю. Работать, говорит, больше надо. Вы тоже, говорит, о прогнозе думать не хотите.
— Пойти, что ль, вместе на него завтра надавить… — почесал в стриженом затылке Лютиков.
— Ничего не выйдет. Поздно. — Чесноков говорил сумрачно и не без некой драматургии; слышались нотки то ли торжественности, то ли торжества в голосе — торжества человека осведомленного над неосведомленным. Лютиков этот малозаметный сигнал принял немедленно и уставился на Эдика немигающими своими глазами.
— Не темни, Эдик, — процедил он, — у меня от твоих фокусов голова трещать начинает. Выкладывай, что там, или иди темнить в другое место.
— Кто темнит? Кто темнит? — надул губу Эдик. — Шеф темнит, это да, так ничего мне толком и не сказал. А вот Штукасу велено в три часа ночи с полным бензобаком быть у двери нашего всевышнего.
— Бежит, подлец, — даже как бы обрадовался Лютиков, блеснул широчайшей белозубой улыбкой. — Да ради бога, скатертью дорожка. Лично я, кроме живописи, ничем здесь более заниматься не буду. Местком — к дьяволу. Да и у Вадима нет больше резона лезть в парторговский хомут. У него есть дела поважнее. Как твоя монография о натурфилософах, Вадик?
— Помаленьку, — лаконично ответил Вадим, поскольку вопрос, по форме обращенный к нему, был на самом деле некоей фигурой в диалоге Лютикова и Чеснокова.
И эта фигура достигла цели. Эдик весь покраснел. Вскочил и метнулся к двери, беззвучно