Директор поднял руку, подергал указательным пальцем, согнул его так, словно на курок нажимал.
И говорил, говорил, заглядывая в глаза:
— Вот ты, Курбан-ага, для меня кто! Понял? Без этого пальца — какая рука? Не рука — обрубок.
— Что ты хочешь?
— Государство, Курбан-ага, проявляет заботу, понимаешь…
— Хочешь что?
— Тебе семьдесят…
— Годы считает кто устал работать.
— Пра-авильно-о! — Сердоморов обошел стол, у распахнутого окна постоял, с любопытством понаблюдав, как завтракают в тени старого карагача приезжие из России, студенты-практиканты: шумные длинноволосые парни и в таких же, как у них, джинсовых, в обтяжку, брюках и клетчатых рубахах веселые девушки. Резали дыни, ели их с чуреком; один из пареньков, озоруя, бросал полумесяцы выеденных дынных корок в облезлого, сонно вздрагивающего длинными ушами ишака. Тот утробно, сипло взмыкивал, будто автомобиль, которому надоело гудеть, но приходится, — и все смеялись.
— Молодость, — вздохнув, сказал директор, потянулся до хруста в костях всем своим тяжелым, но подбористо слепленным телом; снова сел за столик, нажал на кнопку вентилятора — и тугая струя прохладного воздуха ударила их обоих по глазам. Теперь в голосе директора не чувствовалось просьбы — голос приказывал:
— Ты работать не устал — знаю. Будешь работать. Как всегда. Но вместо зарплаты — пенсия. Понял, Курбан-ага? Деньги станешь получать пенсионные…
— На деньгах написано, что они — пенсия?
Сердоморов засмеялся:
— Юморист, однако! — Признался виновато: — Пенсия поменьше зарплаты. — И тут же заторопился в угодливых словах: — Но не обижу, Курбан-ага. За счет премиальных… директорский фонд есть. Куда мы без тебя, и не думай… Ты гигант в нашем деле!
Еще что-то настойчиво и ласково говорил директор, а он, уже не слушая, поднялся с неудобного, пружинно податливого кресла, изготовленного для скучающих людей, и, взяв из угла карабин, толкнул дверь. Обернулся, произнес с досадой:
— Не как мужчина — как старуха много слов потратил.
— Но-но! — улыбаясь, радостный, видно, что разговор закончился как надо, прикрикнул Сердоморов.
И растягивал-растягивал в той же довольной улыбке свои жесткие, с темной запекшейся каемкой на нижней, губы. Тонкая негнущаяся проволока черных волос на голове директора стояла веерным торчком, словно у рассерженного ежа.
Когда он, Курбан-Гурт, шел уже длинным коридором, отражаясь своей прекрасной папахой в надверных стеклянных табличках, Сердоморов в несколько прыжков нагнал его, сунул в руки три большие пачки чая и два необношенных кирзовых подсумка, туго набитых патронами, пахнущих фабрикой, металлом и новизной.
— Знай наших! — с силой хлопнул по плечу, сверкнув нездешними синими глазами — хитрыми и веселыми.
С дворика, где егерь присел на парковую, в чугунных завитушках скамью, через раскрытое окно было слышно, как директор громко позвал секретаршу; и речь его теперь — при молчавшей девушке-секретарше, обращенная к самому себе, — была похожа на те, что он красиво умел произносить на собраниях:
— Что́ наш заповедник по обширности территории — уточним! А чего нам, спрашивается, уточнять, когда великолепно и бесспорно доказывает карта. Любая. Географическая. Политическая. Контурная! Она доказывает, что какое-нибудь там великое герцогство Люксембург, признанное Организацией Объединенных Наций, мы накроем собой как двуспальным одеялом. При этом ни рук его, ни ног, ни прочего люксембургского — ничего из-под этого одеяла видно не будет… Впечатляет? Дальше… А дальше все ж приходится уточнить. Там, в Люксембурге, какая-никакая — монархия, государственный совет, палата депутатов в придачу, пожалуй, всякие государственные учреждения с раздутыми штатами. А у нас в заповеднике? У нас штаты не раздуты — со-кра-ще-ны. Слово длинное — результат короткий. Нет лишних у нас — и нет! Мало нужных — и мало! Нет и мало…
И тут же серьезно — очень серьезно — сказал секретарше:
— Что ж ты, Гульбахар, застенчиво хихикаешь? Я ж тебя, Гуленька, не щекочу. Но-но-но, не краснеть — я пошутил. По-шу-тил!.. Забылся! Склоняю повинную голову… Пиши приказ! О чем? Разъясню — сформулируешь. С понедельника, оформляя нашего Волка, нашего исключительно незаменимого Курбана Рахимовича Рахимова на пенсию, возьмем на освобождающуюся ставку еще одного егеря. Поняла? Вместо одного егеря — сразу два! Один плюс один, Гуля… Поздно я, лошак, дотумкал, пять лет назад уже мог такое провернуть!..
«Не человек — радио», — подумал егерь.
Но уважает он директора.
Директор знает пески, зверей и птиц так, будто родился в курганче[2], в молоке матери будто был уже для него тот необходимый привкус пустыни, без которого не вырастешь для песков своим. Директор пишет книги; не в пример прежнему, отправленному в Ашхабад, то ли в Ташкент, никаким (самым важным!) гостям не разрешает охотиться в заповеднике; и когда бывает у него, Курбана-Гурта, на участке — не один час проходит у них за раздумчивой мужской беседой. Десять — пятнадцать чайников выпьют — и директор ни разу на часы не посмотрит…
Егерь сидел недвижно и думал, а горячее утро меж тем разгоралось с быстротой костра. Глохли под зноем не успевшие нашептаться листья на деревьях. Усыхала, теряясь, голубизна неба. Серебро облаков превращалось в тусклую бронзу. Поржавевшая крыша конторы парила, подобно разогретой сковородке, сизым дымком… Летний день быстро набирал удушливую силу.
— Салам алейкум, Курбан-ага! Как дела?
— Очень хорошо. Саг бол![3]
Это знакомый лаборант пробежал мимо. Длинноногий, как верблюд. В белом халате. Две кобры, крепко перехваченные пальцами у грозно раздутых «воротников», извивались в его руках…
Конюх вывел и стал прогуливать директорского любимца — застоявшегося жеребчика ахалтекинских кровей. Студенты, наевшиеся дынь, осторожно грузили на машину картонные коробки.
Возле конторского крыльца выкусывали друг у дружки блох ничейные собаки. А рядом ходил, по-куриному одноглазо косясь вокруг, зажиревший фазан. К его ноге был привязан красный лоскуток — чтоб все знали: домашний, не ловить… Звонили в конторе телефоны. Двери хлопали. Стучала пишущая машинка.
Курбан-Гурт снова — уже в последний, прощальный раз — скрыто бросил взгляд на раскрашенный фанерный щит, напротив которого — через асфальтовую дорожку — сидел на скамье.
На щите под стеклом среди других была его фотография. Размером с экран телевизора.
И он, передовой егерь заповедника Курбан Рахимов, которому было присвоено звание победителя соцсоревнования ударного года пятилетки, смотрел с фотоснимка прямо как из телевизора.
На праздничной гимнастерке белели медали и выпукло посвечивал большой, затейливо изукрашенный знак победителя соревнования.
На папахе был виден каждый завиток.
Такое фото: кто ни пройдет — обязательно взглянет.
И сам он, посидев, насмотрелся…
С директором побеседовал.
Тот просил: работай. Чай подарил. Патронташ.
Пора идти работать. На свой дальний — самый трудный и скудный, как кажется остальным егерям в заповеднике, — околоток «Пески».
Откуда-то из глубины умиротворенного сердца — вдруг и пугая — выскользнула мысль: и все-таки — слова директора словами — не отнимет ли он у него околоток? Молодого туда поставит! А?!
Покоя уже как не было…
Через четыре дня синеющим рассветом Курбан-Гурт опять пришел к новой джейраньей тропе — туда же, где средь песчаных гряд круглилась такырная впадина. Надеялся на везенье: а что — увидит он стадо?! «Своих» на участке джейранов знал — какое стадо, сколько голов, чем приметны; а эти — новенькие — каковы?
И ему повезло.
Копытца били тут глину только-только — час-полтора назад. Джейраны у озера! Будут возвращаться.
Он спрятался за тонким барханным гребнем. В слежавшемся песке выколотил локтями ямки, устроился — удобно и надолго; под руку положил бинокль, солдатскую фляжку с водой, карабин… Наметанно, за секунды, определил сектор обзора, возможное направление стада, если оно, чем-то вдруг напуганное, сойдет с освоенной тропы.
С гребня скатился серый песчаный еж; смотрел подслеповато и с любопытством: кто это тут затаился — большой, живой, с незнакомыми запахами? Курбан-Гурт вытянул губы трубочкой, фыркнул по-ежиному — легонько, дружелюбно. Еж ответил так же и побежал дальше. А сверху, косо раскинув темные крылья, повис ястреб-тювик: засек движение серого комочка, но боялся спикировать — человек возле! Егерь слегка приподнял карабин: улетай, тебя еще не хватало, — и птица резко развернулась, на крутом вираже ушла к далеким утренним тучкам.
От еле различимых отсюда зарослей можжевельника — сизой стрелки, косо вонзившейся в рыжие барханы, — долетел слабеющий порыв ветра, стронул с места песчинки, пустил вскачь сухой шар перекати-поля… И снова — недвижность густого воздуха, монотонное потрескивание перекаленного песка, набухающая завеса миражного тумана, в котором ломались и прыгали игольчатые обломки тонких солнечных лучей.
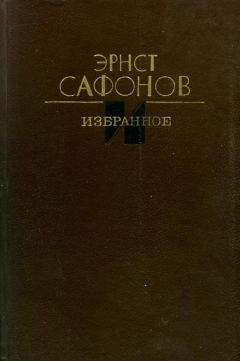


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

