Не сделает он этого — Адамбай продаст Огульджан (если уже не продал) богатому мужчине, потому что срок ее давно подоспел: два года назад, когда Курбан покинул аул, ей было не меньше четырнадцати.
Огульджан — сирота, Адамбай малюткой привез ее издалека, и она не эрсаринка — из другого племени, то ли иомудка, а может, гокленка даже, потому что когда-то Адамбай Орунов служил в нукерах у бека Карры-Кала. Огульджан выросла на дворе курганчи Адамбая, как вырастают отнятые от матери щенки: тихо скуля от голода, холода и в боязни хозяйских пинков. Нет: она выросла как красная роза посреди липкого и смрадного ила, и болото оказалось бессильным помешать расцвету ее красоты.
Так он, Курбан, думал, часто тайком с высокого фисташкового дерева наблюдавший за печальной жизнью сироты в рабстве у Адамбая.
Говорили, что, уезжая, Адамбай приковывает подросшую девочку длинной тонкой цепью к ткацкому станку — чтоб плела ковровые узоры, чтоб сама не убежала и никто не похитил бы.
Курбан как-то подстерег ее у трещины, разломившей дворовую глиняную стену, громким шепотом сказал:
— Не бойся меня, Огульджан… послушай…
— Ты кто? — изумленно спросила она.
— Я Курбан.
— Парень с дерева?
— Да.
— Хозяин меня убьет, если заметит, что я с тобой…
— Послушай, Огульджан, я хочу помочь тебе…
— Как?
— Не знаю, — признался он.
— У тебя нет денег, чтобы выкупить меня.
— Я заработаю.
— Сидя на дереве?
Она горько — по-взрослому — засмеялась…
И вот, иссушенный тифом, тащился он на приблудном верблюде спасти ее, тонкую девочку с неверящим — исподлобья — взглядом темных, как ночь, очей.
В эскадроне, оттиравший после боев узкий клинок сухим песком, он, задумавшись, не раз отраженно видел на безжалостном заточенном лезвии эти из непонятной ночи глаза. И во время стычек, привстав на стременах, выбросив руку с клинком вперед и вверх, он мчался навстречу врагу, мстительно видя в каждом Адамбая Орунова… И-э-э-э… вва-а-а-а!
Что там, в ауле, теперь?
И в какой-то час приплюснутые домишки и юрты аула выплыли из тусклой песчаной бесконечности как призрачный сонный остров. Глухое ватное небо, не всеобщее, а как бы только свое, аульное, укрывало здешнюю жизнь.
На въезде — кривые, торчком из песка, кости, до белизны обкатанные ветрами, и окаменелые горки нечистот. С тупыми мордами псы, полосатые от выпирающих ребер, не гавкнули, не побежали следом. Хоть бы какой-нибудь человечишка на безмолвной улице… пусто! Где-то яростно сражались, где-то устало и бессонно боролись с тифом и дизентерией, где-то упрямо, суматошно — в перестуке тысяч лопат и скрежете металла — уже строили социализм, а тут, понял Курбан, пустыня, окончательно засыпав слабые тропы тяжелым песком, продолжала таить в глубине своей горькие семена человеческой скорби. Красноармейский конный отряд Чарыева, уведший отсюда его, Курбана, был, скорее всего, первым и пока единственным вестником грядущих перемен.
Пустыня — это века, и что для нее три-четыре смутных года, два-три десятка мимолетных человеческих жизней: на песке возродились — в песок уйдут.
Но оказалось — не покинула еще мира бабка Курбана, живой лежала на куче тряпья, и ее сморщенное, обросшее зеленым пухом лицо при виде внука не выразило никакого удивления. Однако выбравшись из дырявой юрты и увидев верблюда, она преобразилась: с громкими хриплыми воплями принялась исступленно целовать золотушные верблюжьи лодыжки, его вислую губу… У ее юрты верблюд, у нее есть теперь верблюд!
Верблюд плюнул в лицо старухи, и она, счастливая, умылась этим плевком; погрозила Курбану изогнутым, как звериный коготь, пальцем: не отдам… уйди!
Он вытащил из кармана и протянул ей последний сухарь; не оборачиваясь, сердясь, что плачет, на нетвердых ногах, со звенящей головой пошел к курганче Адамбая Орунова.
Но Адамбай пребывал не в комнатах: с нездешним гостем сидел на коврах в своей праздничной — из белой кошмы — юрте, тоже кое-где пробитой острыми камнями времени и все же хранившей надменный блеск былых богатых дней. Некогда тугое лицо Адамбая обвисло, а узкие коричневые глаза по-прежнему впивались сверляще и с острым кинжальным взблеском, будто у зверя перед прыжком на жертву.
Появлению давно забытого тут Курбана он, как и бабка, не удивился, равнодушно спросил:
— Ты хочешь заплатить мне?
— За что? — поддавшись первым словам Адамбая, Курбан на миг растерялся.
— Ты бросил старуху, а я кормил ее.
Курбан увидел на блюде обглоданные косточки барашка, запахи недавнего мясного обеда ударили в ноздри, он вспомнил безлюдье вымершей улицы и свою, как угасающая тень, бабку — и ему захотелось достать из-за пазухи маузер, беспощадной пулей насквозь прострелить эксплуататора аула.
Он одумался: может, вправду Адамбай подкармливал бабку — ведь что-то она должна была есть, чем-то питалась. И другое: незнакомец в юрте Адамбая, внимательно осмотрев его, Курбана, изодранный военный френч и кожаную фуражку с пятиконечной звездой, сунул руку под полу халата. А Курбан хорошо знал, как басмачи умеют стрелять через халат.
— Я пришел с просьбой: отдайте мне в жены сироту Огульджан.
Вот когда Адамбай Орунов удивился. Открыл рот, но, сдержавшись, не дал выскочить внезапным словам. Вырвал длинный волос из бороды, вертел его в пальцах, наблюдая, как тот скручивается. Курбан ждал.
— Ты, сын абдала[9], — произнес наконец Адамбай, — ты где научился паскудной дерзости… там?
И мотнул головой в сторону севера.
— Не дерзость это, Адамбай-ага, просьба.
— Ты, вероятно, принес оттуда хурджин золота? У тебя есть сто золотых монет царской чеканки?
— Нет.
— У тебя пятьсот баранов?
— Нет.
— Двести инеров?[10]
— Нет.
— Десять чистокровных аргамаков?
— Тоже нет.
— Что ж у тебя есть? — ухмыльнувшись в бороду, спросил Адамбай. — Ты что, забыл обычай предков: хочешь жену — плати калым. Ступай прочь!
— Я буду платить вот этим золотом, — со значением проговорил Курбан, подбросив на ладони тупорылые, холодной желтизны маузерные патроны, и, не торопясь, как бы раздумывая о чем-то, вышел из юрты.
Он сделал несколько шагов и, как только поднялся на взгорок, повинуясь неясному, но требовательному, знакомому, не раз спасавшему его чувству, упал. И тут же — с секундным запозданием — просвистела над ним пуля.
Он тотчас выстрелил в юрту, услышав грохот в ней; подождав, еще выстрелил, дырявя ее повыше, так как догадывался: Адамбай и его гость лежат, вжавшись в ковры… И Адамбай крикнул ему:
— Кончай, парень. Продолжим разговор!
— Продолжим, Адамбай-ага, — согласился он. — На всякий случай советую помнить: за мной красный эскадрон товарища Чарыева в полтораста сабель.
— Ва-а, зачем эскадрон — так договоримся!
Упасть было легче — встать труднее.
Собрав последние силы, он медленно поднялся, стряхнул пыль с коленей и пошел к юрте.
Там, не дожидаясь приглашения, сел.
Гость Адамбая теперь смотрел на него уважительно.
Сам Адамбай, оглаживая бороду, долго молчал.
А начал издалека, как новый запев старой песни:
— Золотых монет не имеешь…
— Нет.
— Баранов, верблюдов, коней…
— Нет.
— Ковров, парчи, бухарских халатов…
— Ничего нет.
— Зачем пришел?
— Просить в жены сироту Огульджан.
Адамбай вздохнул, с укоризной заметил:
— Аллах, известно, подарил человечеству семьдесят два языка, каждый народ говорит по-своему. Мы с тобой из одного аула, а понять тебя нельзя… Однако я терпелив. Слушай. Эту девчонку Огульджан я купил и привез сюда в кармане. Такая она была маленькая. Я из нее вырастил невесту, даже в холодные дни не звал ее к себе в постель, чтобы она погрела меня… есть ей цена, как думаешь?
Он предупреждающе поднял руку: не перебивай.
— Вижу, что орсы[11] одели твое сердце в железо, ты стал глух и слеп! Ты забыл обычаи земляков.
Курбана неодолимо тянуло в сон, монотонный голос Адамбая сливался с заунывным посвистыванием апрельского ветерка снаружи юрты. Встряхнувшись, он пробормотал любимую фразу комэска Чарыева:
— Классовая борьба — вот наша религия.
— Запах крови возбуждает тебя, — сухо посмеиваясь, сказал Адамбай; лицо его передернулось, побелело; восторг и бешенство были в его голосе: — О-о, сам в молодости… сам горел изнутри! Нам же в молодые годы надо вот так…
Он схватил с блюда обглоданную кость, зажал ее в пальцах, согнул — и та с треском обломилась. Другую схватил — и эта вмиг была расщеплена напряжением твердых рук. И третья, четвертая за ней… Только слышалось: вва-крр!.. вва-крр!..
— Так вот, — обронил запаленно Адамбай, успокаивая наработавшиеся пальцы афганскими четками: бережно перебирал голубые камешки, нанизанные на извивистый шелковый шнур.
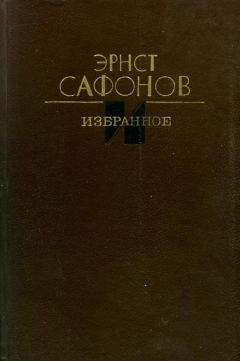


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

