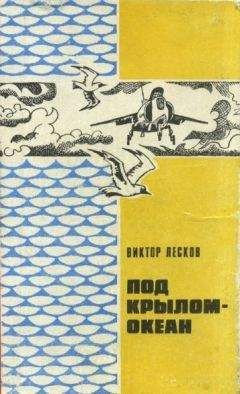— Поставил Трегубов винты на торможение, самолет резко мотануло влево. Схватился я за рычаги, да поздно было — уже снесло с полосы. Такая машина, товарищ полковник… Надо ведь, как хорошо все было: работал, ни с чем не считался — и вдруг оказался в предпосылыциках… — Игнатьев, поникнув, замолчал, сжал сцепленные в замок руки.
Понимал Егоров майора Игнатьева. Нелегкая складывалась у летчика судьба. Другие, смотришь, раз-два — и уже на коне, а этот трудяга пашет день и ночь, и вдруг нелепый случай сводит все на нет. А работает Александр Иванович и в самом деле на совесть.
Когда приезжают комиссии с проверкой документации — а они не так уж и редки, — за подразделение майора Игнатьева можно быть спокойным. Все учтено, своевременно записано, хранится в надежном месте.
Другого командира в рабочее время насилу заставишь сходить в казарму, а Игнатьева и в праздничные дни не раз видел Егоров среди матросов. Беспокоится человек об отдыхе своих подчиненных.
Взять хотя бы последний пример с новой методикой повышения воинской дисциплины. Распорядился он, Егоров, чтобы каждый командир корабля завел тетрадь дисциплинарной практики для учета работы с подчиненными. Кое-кто пытался даже подхихикнуть: «По новой системе будем жить». А Александр Иванович отнесся к этому начинанию с должной ответственностью. Первым сделал тетрадь, разбил аккуратненько на графы, собрал необходимые данные. Подобные тетрадки все потом в полку завели. Вот что значит — человек к делу с душой относится.
Да, неблагосклонна к нему судьба. Но чего не бывает в летной работе?! Вон какие заслуженные нилоты и то не застрахованы от несчастных случаев.
— А что, «правака» подстраховать нельзя было?
— В том-то и дело, товарищ полковник, что можно… Держал бы руку на секторах газа, и все. Но «боковик» был, и я обе руки перенес на штурвал, помогал ему сажать…
В тишине просторного кабинета лишь поскрипывал паркет под тяжелыми шагами начальника политотдела.
— Ну что ж, не будем делать трагедии из этого случая. Вина ваша в этой предпосылке есть, но не такая, чтобы делать окончательные выводы. Я бы посоветовал вам обратить внимание на подготовку своего помощника.
Егоров остановился у окна.
— Я вас, Александр Иванович, ценю не только как летчика, по и как умелого воспитателя подчиненных. Конечно, недопустимо, чтобы все ваши заслуги были перечеркнуты одним случаем. Будем считать, что произошло недоразумение. Знайте, мнение о вас у меня не изменилось…
Потом Егоров поинтересовался делами в эскадрилье и, когда Игнатьев уже собрался уходить, словно вспомнив, сказал:
— Да, там в вашу эскадрилью прибыл молодой коммунист, летчик Хрусталев. Характеризуют его как ершистого парня, так вы помогите ему быстрее встать в строй, освоиться в коллективе.
— Понял вас, товарищ полковник.
Игнатьев вышел с радостным предчувствием, что гроза пронеслась мимо.
Андрей ждал Тамару у себя дома.
На юг он не поехал. Для этого привел отцу очень убедительные доводы: не успел приехать в родные края и опять уезжай — раз; заветная мечта его еще со школьной скамьи перечитать всех утопических социалистов, от Мюнцера и Томаса Мора до современных, — два; отпуск длинный, он, Андрей, еще надоест родителям — три.
Отец без энтузиазма, но согласился.
На вокзале Нина отвела Андрея в сторону и сказала так, чтобы никто не услышал:
— Если ты обидишь Тамару, я тебе никогда этого не прощу!
Тамара стояла в трех шагах от них, недоумевая, о чем могут шептаться брат с сестрой.
Вывих правой ступни давно прошел. Самым сложным для Тамары было, конечно, переступить порог своей квартиры. Но прежде всего они приехали тогда к Хрусталевым. Вымылись, привели себя в порядок и в полном блеске отправились к Ореховым. По пути Тамара из телефона-автомата предупредила своих, что возвращается в сопровождении эскорта и с легкими ранениями. Мать Тамары — светлолицая статная женщина лет сорока — отнеслась к травме дочери спокойно: до свадьбы заживет. Отец с виду чем-то напоминал сельского врача: в жилетке, очках, большого роста, с тихой, доброй улыбкой. Работал он настройщиком в музыкальной школе. А в доме, видно, порядок держала мать. С первой встречи установилась симпатия между ней и Андреем.
Поезд уходил, и Хрусталев с удовольствием помахал рукой на прощание сестричке: при ней никак не удавалось остаться наедине с Тамарой.
— С ними простился, а с тобой встретился. — Андрей легонько взял ее за руки выше локтей, повернул к себе. — Верно ведь?
Она стояла перед ним, не пытаясь отстраниться. И все-таки удерживала его на расстоянии.
— Нет, мы встретились ровно десять дней назад, — сказала она спокойно. — Их нельзя вычеркивать.
Андрей чувствовал какой-то внутренний протест в Тамаре и не знал, чем его объяснить. Он боялся даже неосторожным словом омрачить их отношения, но он сгорал от нетерпения: сколько же может длиться эта неопределенность между ними?
— Ты почему сейчас за тридевять земель от меня? — Он попытался привлечь ее к себе.
Она передернула плечами:
— Ох уж эти уличные нежности!
Вот и объяснились. Хрусталев шел рядом, нахмурившись.
Тамара взглянула на него:
— Чтобы ты знал, говорю тебе только раз: я никому не принадлежу, сама определяю, что хорошо, а что плохо, и не выношу любого, даже малейшего, насилия над собой.
Андрей внимательно выслушал ее.
— Хорошо, эти принципы сотрудничества надо обязательно утвердить, скажем, в «Аэлите», — с улыбкой предложил он.
— Нет, поедем домой, — отказалась Тамара. — Уже поздно, десятый час!
Они остановились у выхода на привокзальную площадь. От игры оранжевых, зеленых, синих огней рекламы на здании вокзала ее лицо казалось то одухотворенным, то грустным, то обиженным. В черной кофточке и длинной, туго стягивающей тонкую талию юбке она была удивительно хороша.
— Домой? Так это еще лучше! Я согласен на такое нарушение суверенитета!
— Нет, ты можешь пойти в кафе, когда проводишь меня. Здесь недалеко. — Она заметила его усмешку и добавила без всякого вызова: — Если ты думаешь, что я боюсь, то давай поедем к тебе.
Всю дорогу занимала Андрея только одна мысль: интересно, что из этого выйдет?
Однако никаких неожиданностей не произошло. Тамара надела передник и стала собирать грязную посуду, оставленную после отъезда на столе. Хрусталев блаженно сидел в кресле и с откровенным удовольствием любовался ею: видеть бы вот так ее рядом всю жизнь!
Было так хорошо, что ему даже не хотелось двигаться.
— Ну вот и порядок! — появилась улыбающаяся Тамара из кухни. — Можно, я немного поиграю? — И, не дожидаясь ответа, присела к пианино.
Нравилось ей звучание старенькой «Березки», вместе с Ниной не раз что-нибудь разучивали, но в тот вечер она его просто ошеломила. Осторожно тронула клавиши, какое-то время перебирала их, будто настраиваясь на заветную волну, вспомнила Грига — «Песню Сольвейг»… Потом запела. Голос у Тамары был чистый, звучал свободно, как дыхание.
Андрей сидел с неподвижным лицом, сведя брови в одну линию, как будто был недоволен, а сам думал о том, каким нелепым было предупреждение сестры: что бы с ним ни произошло, он никогда не принесет несчастья этой девочке у фортепьяно.
Он проводил Тамару домой, а на следующее утро она уехала из города на неделю к своим родственницам. Обещала, когда вернется от них, прийти к нему. Потом они вместе посмотрят фильм о декабристах. О декабристах именно вместе!
… Андрей начал ждать Тамару с утра, а ее все не было, хотя солнце стало светить уже с другой стороны дома. Не один раз выходил на балкон, высматривал ее среди далеких прохожих и возвращался ни с чем. Наконец он отложил в сторону книжку, из пухлой стопки нот выбрал «Орленка» и стал с горем пополам наигрывать его. Нотную грамоту он подзабыл, каждую фразу проигрывал по нескольку раз, однако время заметно пошло быстрей.
Дважды за этим занятием заставала его ложная тревога: в дверь позвонили по ошибке, потом сосед пришел, попросил закурить.
Ее звонок выделился особой заливистостью и звучал несколько дольше, настойчивее других. Андрей, сдерживая себя, шел к двери.
Открыл ее резко, на весь распах.
— Ой, не пугай меня! — отпрянула Тамара. — Я так быстро шла, что не могу отдышаться. — Она ступила в коридор, закрывая за собой дверь. И остановилась, глядя на него.
Только теперь он увидел в ее глазах смятение.
— Что с тобой? — шагнул он к ней, отмечая и ее едва уловимый встречный порыв и потом — ее близко запрокинутое лицо.
— Я ничего не могу с собой сделать! — Ее испуганные глаза наполнились слезами.
Ничего не было тогда счастливее этого мига одного дыхания с ней, этого первого прикосновения к нежному лицу…