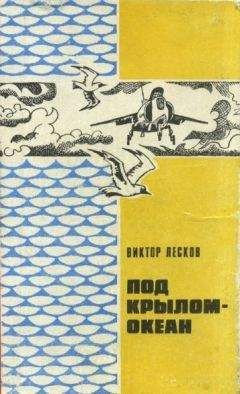Ничего не было тогда счастливее этого мига одного дыхания с ней, этого первого прикосновения к нежному лицу…
— Нет, только не это! — Она освободилась из его рук, но так и осталась стоять на коленях перед низкой софой. — Я тебя люблю! — Тамара держала его голову в своих ладонях, закрывая горячими губами ему глаза. — Почему ты молчишь? О чем ты думаешь?
— О том, как бы нам совсем никогда не прощаться.
— Как?
— Ты хочешь быть моей женой?
— Ты спрашиваешь?
За окном уже занималась вечерняя заря, когда они вспомнили о кино…
Город уже зажег огни. На проспекте Революции нескончаемый поток гуляющих.
— У меня есть заветное место. Я прихожу туда только в особые дни, ну, например, в такой день, как сегодня. — Тамара доверчиво держалась за его руку. — Сейчас ты его увидишь. Пойдем!
Они пришли к Помяловскому спуску, остановились перед широким гранитным парапетом над крутизной. А внизу, в падающей волне садов, светились под фонарями черепицы крыш. За ними простирался глянцевый блеск искусственного моря с четким отражением цепочки огней на сквозном мосту, а еще дальше высились голубые кварталы Левобережья, и над ними то пригасали, то разгорались бледные звезды.
— Когда я прихожу сюда, то каждый раз начинаю думать о своей жизни. Столько у человека дорог, но вдруг он пойдет не по своей!..
Облокотившись на парапет, они смотрели на раскинувшийся под ними город, видели светлую границу его окраин, а за ней простиралась в голубом сумраке таинственная неизвестность, как образ другой, неизвестной жизни.
— Во все времена перед человеком главным был не выбор рода занятий, а другое: быть гражданином или подлецом, — сказал Андрей.
Помолчали.
— Мне очень хочется посмотреть на тебя в работе. Я тебя представляю в кабине перехватчика устремленным вверх и вперед навстречу вторгшемуся нарушителю. Через стекло кабины видны твое лицо, твой взгляд, и сразу становится ясно, что враг не пройдет. Такая у тебя работа?
Тамара представляла его работу как непрерывный подвиг, и все самолеты виделись ей непременно сверхзвуковыми, а летчики, естественно, рыцарями без страха и упрека.
— Нет, у нас обходится без перехватов.
Мог бы Хрусталев рассказать Тамаре, что самолеты бывают разные, да и летчики в жизни имеют далеко не одинаковые «потолки».
Мог бы рассказать, но тогда бы она его не поняла. Впрочем, все это со временем она увидит и сама, без его рассказов, когда закончит учебу и приедет к нему.
— А знаешь, о чем еще я загадывала? — Тамара коснулась ладонями его груди. — Я загадывала сказать тебе здесь, что отдаю свою жизнь и свою любовь на твою волю и буду предана тебе в горе и счастье и любовь моя уйдет вместе с моей жизнью. Ты ее принимаешь? — взволнованно спросила она, опуская голову и пряча глаза.
— Принимаю!..
Нет, это была еще не любовь, это было только ее начало.
… Техники у самолета гоняли в футбол. Вместо мяча сложили две рукавицы, вывернули одну мехом так, что другая оказалась внутри нее, и чем не шарик? А рукавицы уже наверняка не понадобятся — зима кончилась. Приглушенно работала машина аэродромного питания — только для того, чтобы освещать самолетными фарами «спортивную арену». Около полуночи уже, а техники мечутся черными призраками, и за каждым — две тени.
Увидев командира, разом остановились. Старший шагнул с докладом, силясь в разбитых валенках показать строевой шаг:
— Товарищ майор…
— Можно садиться?
— Все готово, командир!
«А жаль! Все-таки придется лететь», — вздохнул Игнатьев и, не задерживаясь, прошел в кабину.
А Хрусталев, пока не облазил снаружи весь самолет, не ощупал его руками, и не подумал занимать кресло. Не мог он подниматься в воздух с чувством человека, оставившего дома включенным утюг.
Следом за ним, присвечивая «переноской», неотступно следовал механик.
— Теперь все! Поехали! — Андрей ступил на стремянку.
Командир сидел уже в шлемофоне, затянутый привязными ремнями. Он вопросительно оглянулся на Хрусталева, и тот также молча кивнул: «Можно запускать!»
Все шло пока по плану. Неуклюже разворачиваясь, тронулся со стоянки самолет, поднимая за собой снежную круговерть. Размашистые крылья пружинисто прогибались вниз-вверх, и в такт им то ярче, то тускнее отсвечивал красно-зелеными пятнами снег под концами плоскостей. Слегка покачивало на стыках бетонных плит. Хрусталев смотрел из темноты кабины на блестевшую натянутым атласом дорожку, испытывая тайное торжество, что полет все-таки не отменили, хотя в авиации и не любят преднамеренно рисковать. И без того хватает риска.
Перед ними белела взлетная полоса.
— Взлетайте, — передал руководитель Игнатьеву.
Размытая цепочка желтых огней, обозначавших полосу, тронулась за боковым стеклом. На дальнем торце полосы светился прожектор — по нему легче выдерживать направление.
Снег тянулся теперь навстречу — над самой землей — белыми трассами; «дворники» безостановочно чистили лобовое стекло, но все равно взлет выполнялся почти вслепую, скорее на ощупь. Одна надежда на технику. Чуть какая мелочь подведет — ох и большой же костер будет! Десятки тонн одного керосина…
Летчики терпеливо ждали за штурвалами, когда возрастет скорость, а она росла медленней обычного — тормозил снег на полосе.
Но все-таки могучая техника взяла свое. Вздыбленная машина, оставляя позади себя грохот, полого поползла за голубым лучом фар в ночное небо.
Андрей снял руку со штурвала, не глядя, потянулся к переключателю, убрал шасси. И тут же услышал напряженный голос командира:
— Андрей, держи!
Самолет заваливало вправо, а удержать его у Игнатьева не хватало сил. Тяжелая это была машина, на медведей, похоже, рассчитывали.
— Держу, командир, держу, — крутанул штурвал своими лапищами Хрусталев, возвращая самолет из крена. Он выключил фары, и самолет вроде остановился: черно кругом — и снаружи, и в кабине. А циферблаты приборной доски как будто повисли в воздухе.
Вот он, Пятый океан! Андрей отдыхал в эти минуты набора высоты, когда машина под крутым углом уходила все дальше от земли, чуть вздрагивая при пересечении горизонтальных струйных потоков. Воздушными течениями атмосфера напоминала слоеный пирог: одни волны устремлены на восток, другие — над ними, чуть выше, — на запад, север, юг; каждая высота имеет и собственную реку с летучим устьем.
Андрей любил свою работу. Он готов был по первой же команде взлетать в любых условиях, но больше правились ему ночные полеты. Их самолет мог держаться в воздухе от зари до зари, мог пересечь самое просторное в мире небо — небо своей Родины — без посадок и дозаправок. И там, со звездной высоты, видел он далеко внизу родную землю; оброненными горстями янтарных ожерелий светились города; монетами серебра поблескивали время от времени уснувшие в лунном свете одинокие озера; за бездонной чернотой под крылом угадывалась холодная ширь моря.
В эти минуты чувствовал Хрусталев и трудовой ритм ночной смены инструментального завода, где он работал до армии, и покой молодой матери с обнаженной грудью перед открытыми губами спящего младенца, и незаконченность листа рукописи писателя с округлым, чуть вытянутым в ширину почерком.
Все это была мирная жизнь, жизнь с незыблемой верой в непременно счастливый завтрашний день. Ради этой жизни и поднимался вместе с экипажем капитан Хрусталев в ночное небо. Не прогуляться, а выполнить учебно-боевую задачу по охране мира; поднимался с неограниченным правом распоряжаться собственной жизнью ради безмятежного сна младенца…
Обычно плотная облачность высоко не развивается. Самолет легко, броско вырвался за верхнюю кромку облаков, дымчатую и ровную, как утренняя степь. Перед ними распахнуто открылось небо с яркими угловатыми звездами.
— Все о'кей, командир! — весело доложил штурман. — Мы на линии пути!
— Ну молодец, казак! На пять баллов водишь. — Игнатьев не терял чувства юмора: «Еще бы уклониться, не успев взлететь».
Костя Иванюк принял его слова за чистую монету:
— Как учили, командир. Стараюсь…
С Иванюком не так давно Александр Иванович чуть было не простился. Тоже из-за подобных шуточек. Отказали тогда у штурмана ларинги. Пора делать разворот, а он пилотам ничего сказать не может. Отодвинул шторку своей кабины и начал жестикулировать с присущей ему экспрессией. Этакий упитанный боровичок килограммов на сто, голова в шею вросла. Мечется Костя по кабине, аж самолет ходуном ходит. А вылезать к летчикам неохота: надо на четвереньках выбираться — такой неудобный проход в штурманскую кабину. Изображает Константин ладонью разворот самолета, хлопает в ладоши, показывает на пальцах: мол, влево десять градусов… И глазами страшно вращает. А Игнатьев смотрел-смотрел на него с непонимающим видом, а потом и додумался сказать по переговорному устройству Хрусталеву: