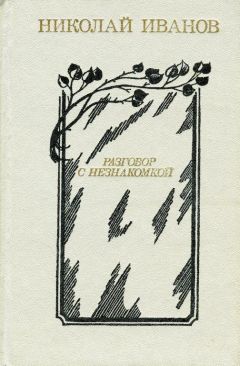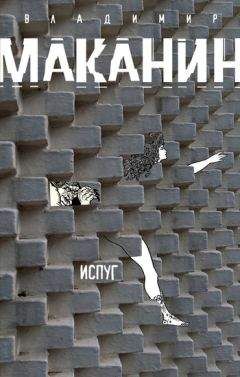Вернувшись домой, отец мог читать по-японски, читал иногда вслух — матери. И я помню, меня еще тогда, в детстве, поразили глубокие и изящные японские трехстишья и совсем миниатюрные стихи в прозе. А теперь, когда они переведены и изданы у нас и их, хотя и с великим трудом, но можно приобрести, я открываю эти небольшие книжицы и в толковых изысканных переводах трехстиший или «Записок у изголовья» Сэй-Сёнагон узнаю уже знакомый мне текст.
Представляешь, почти полжизни отец мой проносил военную форму, четыре войны прошел, а все-таки не стал военным человеком. И вместе с тем, демобилизовавшись через год после победы над Германией, он продолжал до конца дней носить ту же форму, только без погон. Немало было в нем противоречий. Много он курил. Даже ночью, помню, проснешься на мгновенье и вдалеке, в темноте, увидишь мерцающий огонек его сигареты или отражение огонька в черном ночном окне. Если бы знать, какие большие думы он думал с теми ночными сигаретами! А вот спиртного никогда не брал в рот. И маме нелегко было защищать и оправдывать его на редких званых вечерах. Не любил он состояния даже легкого опьянения. Хотя, думаю, не был он ни моралистом, ни ханжой, ни аскетом. А сколько же ему приходилось работать! В сельской местности рабочий день врача — круглые сутки. Телефона в доме не было, и часто глубокой глухой ночью нас будил резкий требовательный стук в окно. И сразу же — сигарета на ходу, а дальше, в лучшем случае, — лошадь, повозка с охапкой закуржавевшей соломы, а то и пешком, километры по степи, по большаку, под завывание вьюги. Зато каждый свободный час, минуту, мгновенье — книги, книги, журналы, подшивки от первых номеров «Современника», «Колокола», «Исторического вестника», «Русской старины», «Нивы» и до теперешних толстых и тонких, центральных и периферийных журналов. Чудом удавалось ему получать редкие книги в богатейшей старинной библиотеке университета, куда и я со временем протоптал дорожку. Диапазон интересов его был очень широк — литература с древнейших времен до наших дней, история, естественные науки. Но была у него одна особая страсть — интерес к жизни, судьбе, деятельности декабристов. И я не знаю, остались ли хоть один опубликованный документ, письмо, записка, связанные с их именами, которые бы прошли мимо него. Мне думается, знаний его, материала, которым он обладал и буквально на память знал, хватило бы не на одну докторскую диссертацию. А он был рядовым сельским доктором, никогда и не помышлявшим о публикациях.
Сколько помню, он был равнодушен к кино, к современному театру, к телевидению, которое в пятидесятые годы только входило в быт. И в то же время знал абсолютно все, что связано с Мариинкой, с МХАТом, с Большим, с рождением Великого Немого, помнил каждый спектакль, каждую роль Качалова, Ермоловой, Стрепетовой, Неждановой, Станиславского, Мозжухина и Максимова, Веры Холодной.
В разгар первой мировой пятнадцатилетним мальчишкой убежал он с другом из реального училища на фронт. Служил полковым связистом и под осколками, под шрапнелью налаживал взаимодействие позиций. На втором году получил «Георгия» под Брест-Литовском, гражданскую встретил в действительной, воевал на Южном фронте, в Крыму. Ну, а в зрелые годы встретил Великую Отечественную, на седьмой день войны был уже на фронте. На Дальний Восток в сорок пятом тоже уезжал с первыми эшелонами.
Как он мечтал, чтобы кто-то из нас, детей, надел после школы белый халат! Будучи прямодушным, честным до щепетильности человеком, он готов был едва ли не на подкуп, когда сестра окончила десятый класс. Что он ей только не обещал: и пианино, и золотые часы, и панбархатные наряды, вещи по тем временам нереальные, практически недосягаемые для нашей семьи. Нет, не соблазнилась она, не пошла в медицинский и повторила судьбу своей любимой учительницы. Со мной оказалось и проще, и в то же время сложнее. Вернувшись из армии, я без особой, правда, надежды (в те годы был огромный конкурс) подал документы в мединститут. И был принят с первым же потоком. Три года я был уверен, что халат мне придется носить всю жизнь. А потом… Наверное, это случилось через год после его операции. Я понял: не смогу. Не смогу видеть человеческие страдания. Все, что угодно, но не это! Если бы ты видела лицо, глаза, руки человека мужественного, сильного, прошедшего четыре войны, и почти на коленях умоляющего маму дать наркотик. Видела глаза эти в минуты передышки от боли. Поначалу, вероятно, неземными, нечеловеческими усилиями он старался убежать, спрятаться от боли за книги, читал, ходил, ходил до изнеможения, снова читал. Как чудовищны, архимогучи были, видно, страдания, если вскоре даже это, последнее, стало ему не под силу. И оставались только мучительнейшие часы, десятки долгих минут до следующей инъекции, до следующего послабления. Вот в эти страшные минуты я и понял: не смогу… Но каково же было матери моей в эти черные дни! Она высохла, поседела, стала прозрачной и легкой, как осенняя паутинка, глаза ее от бессонных ночей лихорадочно поблескивали. И сколько же сил оказалось в этой хрупкой женщине (как все-таки всемогуща природа!), физических, душевных сил, в ней рождались в те минуты, мне кажется, и какие-то иные, необъяснимые, магические силы. В те секунды, мгновенья, когда страдания его достигали апогея своего, предела, когда они становились выше человеческих возможностей, он на ощупь находил ее руку возле себя и сжимал, сжимал, и, видимо, эта магическая сила по капле передавалась ему, и самое страшное так же по капле, медленно отступало от него. Чудодейственную силу обретал в эти часы и голос ее, она говорила, говорила, говорила, пытаясь отвлечь его, отдалить, отодвинуть хоть на минуту, хоть на короткие мгновенья приход самого страшного, а говоря, вспоминала, конечно, о самом сокровенном. «Митя… в день, когда мы венчались, помнишь, прилетели грачи, день был солнечный, ласковый, нам повезло, Митя, правда? Ты слышишь, ведь Саврасов увековечил именно тот, наш день? И внуки и правнуки наши его увидят… А когда хор начал «Гряди, гряди, голубица…», ты мне вот так же сжал руку, помнишь? А еще знаешь что я часто вспоминаю? Твое назначение в Большие Копены, в двадцать третьем, наш первый дом. Церковь без креста на пригорке, речку, весеннее половодье, соседнюю деревушку Вихляевку с полуразрушенной усадьбой и магазин-кооперацию, где, кроме гречневой крупы и селедки, ничего не продавалось… Но зато гречку мы ели вдоволь, каждый день, утром с молоком, вечером — с подсолнечным маслом. Помнишь?.. А мои ученики, как однажды они принесли нам продукты, а ты прогнал их, Митя, а потом возмущался и вздыхал целый вечер? А кто-то из ребят, я подозревала, что все-таки Ванечка Налетов, тайком пробрался в наш дом и оставил круг сливочного масла на столе. Мы несколько дней добивались признания от них, и безуспешно. А потом все-таки съели это масло, как это было вкусно, помнишь, с ржаным хлебом? А первый наш отпуск? Осенний золотисто-голубой Крым, домик Чехова, пожухлые листья Никитского и Массандры… А на обратном пути — Москва, наш Тверской, кафе «Бом», «Стойло Пегаса», сумрачный Маяковский с папиросой у входа. Как шумела тогда Москва, как была неспокойна! Мейерхольд, РАППовцы и ЛЕФ, имажинисты, диспуты, ссоры, дрязги и вдруг… концерты Дункан, Стравинский. Мы останавливались тогда у моих подруг по Екатерининскому, они нас просвещали, помнишь сестер Дашковых? Наш первый отпуск… и последний. Боже мой, Митя, мы ведь с тех пор ни разу не были в отпуске, то есть мы вообще не были в отпуске, кроме того, единственного, раза. Сначала дети, потом война…»
И ни единой слезинки, ни намека на слезу в голосе, наполненном нежностью памяти и звучащем по-прежнему чисто и легко.
…Утром Александр Дмитриевич занялся своей пишущей машинкой. Сменил ленту, смазал и, прочищая шрифт, мысленно вернулся в Пашину больничную палату. И зачем он рассказывал Паше о себе? Хвастал? Было бы чем. Как часто память стихийно уводит туда, куда, казалось бы, ну никаких предпосылок нет сейчас возвращаться, даже в мыслях. Ему вдруг снова припомнился его первый институт. И сам он, надевший белый халат. Пока еще студенческий, но наглаживаемый каждый день с шиком, с особыми складками. Анатомичка. Лекции. Клиники. Практика в сельской больничке. И екнуло, сжалось сердце Александра Дмитриевича, когда вспомнил он ту деревушку на речке Медведице. И деревушка-то дворов в тридцать, не больше, а больница своя. Больница не больница — здравпункт скорее с пятью койками при нем. Позднее Александр Дмитриевич узнал, что бывший председатель колхоза, фронтовик, подвижник, начинавший после войны на пустом месте, считай на пепелищах, за десять лет сделал колхоз миллионером и добился, чтобы в каждом отделении колхоза, в каждой деревушке, территориально принадлежавшей колхозу, была своя маленькая больница. Давно нет в живых председателя, руководят колхозом люди уже третьего поколения, внуки председателя, а больницы остались, стоят больницы, живут. Правда, врачей до сих пор недостает, и чаще всего в такой больнице за главврача — фельдшер, но больницы не отстают от жизни, пополняются новым оборудованием, медикаментами. Вот в такую больницу и попал он на практику. Старенький хромоногий фельдшер дядя Федя буквально в день его приезда оформил себе пенсию и, едва успев сдать все хозяйство Александру Дмитриевичу, укатил в Ленинград к дочери. Александр Дмитриевич, не ожидавший такого расклада, растерялся и приуныл. Вскоре пришла из облздрава официальная бумага. Ему рекомендовали оставаться во «вверенной» больнице на все время уборочной, до особого распоряжения. С институтом таковая директива была согласована. И остался Александр Дмитриевич триедин на неопределенное время: он и врач, и сестра, и санитарка. Постепенно он приободрился, вдохновленный новым положением, навел порядок в кабинете, чистоту в приемной и в палате, у входа в больницу с улицы повесил распорядок приема больных. Но прошел и день, и два, миновала неделя, а он не принял ни одного пациента. В больницу никто не шел. Александр Дмитриевич снял свой «распорядок» с двери, переписал его, продлив прием больных до девяти вечера. Нет, не возымело действия. Тогда он решил сам посетить больных — на дому, без вызова. Но для этого надо было выявить их, больных-то, определить место жительства. И он подговорил мальчишку, каждый вечер проходящего с удочками мимо его окон, завербовал его, сделал своим агентом, пообещав привезти из города рыболовных крючков. Мальчишка охотно ходил в разведку. Но возвращался ни с чем.