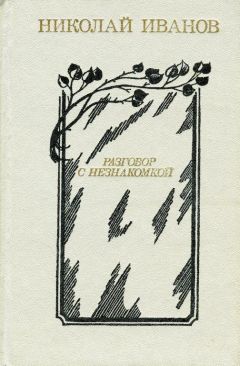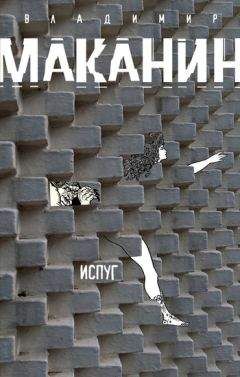Есть люди, дорогой образ которых, облик, душа и память хранят вечно. Как и ее широкое, с крупными чертами лицо, умные, всегда светящиеся глаза, грудной, плавный и певучий голос, как и всю ее, чуть грузную, с мягкой медлительной походкой.
* * *
В первый апрельский понедельник, в ведренный солнечный день, увезли Пашу Середу в больницу. Шла расширенная редколлегия. Шеф ставил перед отделами задачи, связанные с проблемами Нечерноземья. В разгар его пылкой призывной речи Паша, сидевший в самом конце конференц-зала притулившись к дверному косяку, вскочил и, согнувшись в три погибели, выбежал за дверь. Вскоре Александр Дмитриевич нашел его в отделе, лежащим на составленных стульях, бледного, немощного, с испариной на лбу. Вызвали «скорую помощь», отправили в больницу. И вот теперь Александр Дмитриевич шел навещать своего незадачливого зама, навсегда освободившегося от аппендикса.
Паша встретил его вымученной улыбкой.
— Плохо, микрошеф, ох плохо… — ответил Паша на вопрос о самочувствии, не отрывая головы от подушки.
— Эх ты, стрелок-радист, как же ты летал за облаками, если охаешь от пустячной операции?
— Тянет везде, болит.
— Да тебе вставать надо, шагать, двигаться, а ты лежишь вторые сутки.
— Боюсь…
— Бояться нечего, это я тебе говорю вполне авторитетно, как бывший… так сказать, несостоявшийся… — Александр Дмитриевич стянул с него одеяло. — Давай-ка подниматься, я помогу и заодно расскажу, как я совершил свою первую операцию, такую же, кстати, что была у тебя.
Паша нехотя приподнялся, подложив под спину подушку, сел на кровати. Прикрыл глаза.
— Так дело не пойдет. Вот шлепанцы, халат. До двери — и обратно.
— Сколько же ты курсов кончил, микрошеф, если уже и операции захватил? — спросил Паша, спуская голые пятки с кровати.
— Считай, половину вуза, три курса, — ответил Александр Дмитриевич, беря его под руку. — Но дело не а этом, я с первого курса был в НСО. Звучит, заметь, — почти НЛО, НТР, а всего лишь — научно-студенческое общество. Сначала это была анатомия, потом оперативная хирургия.
— И кто же оказался первым под ланцетом? — Паша, охая, снова присел на кровать, когда они в обнимку пересекли палату и вернулись назад, к его ложу.
— Женщина, в годах уже, никогда не забуду ее лицо: волосы с проседью, серые настороженные глаза, прикушенные губы. Все шло путем, как говорится. Руку я до этого набил более-менее, ассистировал всю зиму самому Папавьяну, был такой хирург, светлой памяти, золотые руки. Разрез сделал небольшой, как и заранее планировал. И отросток нашел довольно быстро, что, кстати, не всегда удается сделать сразу из-за неодинакового его положения у разных людей. Сосуды перевязал аккуратненько, вроде нигде не пролил, сестра еще, к счастью, оказалась опытная, без слов все сама делала, понимала состояние. Зашил, а ощущение такое, что не аппендэктомию делал, а по меньшей мере прободную резал, мокрый весь, как мышь. Увезли тетку в палату головой вперед, проводил я ее до койки, сбросил маску с халатом — и домой, время уже к вечеру было. — Александр Дмитриевич достал сигарету, понюхал, убрал в карман и осмотрелся. — Неплохо устроился, однако, Паш, а? Палату, что на двоих, один занимаешь, а вот в наше время…
— Ну, а дальше-то, дальше. Про тетку…
— Вот и лежу я ночью тогда и думаю. Все заново переделываю по памяти, вспоминаю, и получается по моим расчетам, что помереть должна тетка та, помереть, и все. Показалось мне, что задел скальпелем сосудисто-нервный пучок под занавес, перед тем как зашивать. Все, думаю, кровоизлияние в брюшину, перитонит, заражение крови и всякое такое. Прощай, думаю, тетка. Лежу, курю, вторую пачку приканчиваю. Потом поднялся, набросил на себя бушлат армейский и марафоном через весь город в больницу. Пять утра, транспорта, сам понимаешь, никакого. Бегу и думаю, поднимусь сейчас на второй этаж в хирургию, открою дверь в палату, а койка пустая. Прибежал. Добудился санитара. Поднимаюсь в отделение. Перед дверью палаты стою минуту, две, пять. Потом — раз, ручку на себя и вижу в свете ночника — спят люди, ищу глазами пустую койку. В самом конце, у стены, разглядел силуэт над кроватью. Подхожу на цыпочках и глазам не верю — сидит моя подопечная, ноги свесив с кровати в шерстяных носках, и вяжет — спицы так и мелькают в руках. Как, спрашиваю шепотом, чувствуете себя, мамаша, сам заикаюсь даже — до того неправдоподобной мне кажется вся эта картина. Дак хорошо, говорит, чувствую, рассветает, домой буду собираться, корову без меня, боюсь, не подоит сноха… Вот такие вот они, Паша, русские женщины. А ты, бывший солдат, лежишь тут и мандражируешь.
— Н-да, микрошеф, интересная история, с характерами. А скажи мне еще такую вещь, если не секрет, конечно: почему до конца не доучился?..
— Об этом, Паша, в двух словах не расскажешь.
— А ты попробуй.
— Понял я, что не смогу быть фанатиком, не смогу быть одержимым, исключительным человеком, личностью. А только таким в моем представлении должен быть врач. И потом, знаешь, как тяжело, как мучительно видеть человеческие страдания, боль и смерть каждый день, всю жизнь… — Александр Дмитриевич снова достал сигарету, размял в пальцах. — Ну все, Паша, двинул я, курить охота, невмоготу. Значит, так: сегодня и завтра туда-сюда, туда-сюда, — он показал рукою, прочерчивая расстояние от двери до стены. — Сам почувствуешь, лучше будет, а потом домой просись, дома совсем оживешь. На БАМ, само собой, теперь не полетишь. Зарубцуешься, я тебя к узбекам отправлю, Самарканд посмотришь, Бухару, материал там неплохой вырисовывается, тем более в прошлом году я был, теперь твоя очередь.
…Выйдя из хирургического корпуса, Александр Дмитриевич направился было к воротам, но, заметив широкую садовую скамью под двумя старыми тополями, свернул к ней, присел и снял шапку. Солнце, пронизывая теплыми лучами густые ветви деревьев с набухающими почками, припекало голову. В дальнем углу больничного двора жгли слежавшиеся прошлогодние листья, и над темнеющей черноземом клумбой дрожал подогретый воздух.
Две пожилые санитарки в телогрейках, надетых прямо на халаты, прокатили мимо Александра Дмитриевича тележку с зелеными бачками полевой кухни. В ворота въехала машина «Скорой помощи» и, не сбавляя скорости, пронеслась в конец двора к желтеющему правильным прямоугольником корпусу. И у него вдруг защемило сердце. И как было уже десятки, может быть, сотни раз, показалось, что все, что подвластно сию минуту зрению его, слуху и обонянию, — вторично. Было уже все это, было: и запах горелых листьев, и больничные корпуса, и санитарки, и солнце, пригревающее сквозь крону деревьев, и «скорая помощь», и такая же скамейка напротив «Хирургии». Сколько же лет прошло с той весны? Восемнадцать, целая вечность — а все кажется, будто вчера… На скамейке он поджидал мать, дежурившую на втором этаже в палате отца. Это был день удачно прошедшей операции, подарившей обреченному человеку ровно год…
Наверное, никогда еще так, как теперь, ему не хотелось поговорить с Незнакомкой. Но он посмотрел на часы и поднялся. Надо было возвращаться в редакцию, ждали дела.
…Домой он в тот вечер шел пешком. С хрустом ломались под ногами редкие осколки льда на сухих тротуарах. Александр Дмитриевич снял шапку, косые лучи заходящего солнца уже ощутимо пригревали голову. Незаметно он вышел к Большому Каменному мосту. Постоял, наблюдая, как река, мерно покачивая свою плоть, медленно движется дальше, к Кремлю. Потом шел вдоль набережной, долго провожал взглядом белую баржу, первую, может быть, в этом сезоне. Баржа оставляла на водяной глади широкий, сияющий перламутровым нефтяным отливом след.
Темнело, когда он миновал Кузнецкий мост и пошел тесным коридором Столешникова. Неожиданно свернул к проезду Художественного театра и, не доходя подъезда МХАТа, остановился, не веря своим глазам. Толпился на тротуаре народ, как в прежние времена, спрашивали билеты, подъезжали и разворачивались шафранные такси, высаживая деловых, спешащих людей. Значит, все-таки жив, жив и старый МХАТ! Еще более был поражен он, взглянув на афишу. Давали сегодня «Чайку».
Александр Дмитриевич неторопливо закурил, разглядывая оживленных людей у театрального подъезда. Тихая, покойная отрада наполнила его душу. Будто притормозил на мгновение скорый поезд, везущий его куда-то безостановочно, далеко. И он вдохнул глубоко влажный воздух, невольно сосредоточиваясь на этом мгновении, и осмотрелся. Теплый вечер, Москва, старый театр… Слева от входа он увидел Оксану и не удивился. Иначе, наверное, и не могло быть в этот весенний вечер. Все-таки он немного был фаталистом.
Она стояла пристально всматриваясь в лица приближающихся к подъезду людей. Он был в двух шагах от нее и не решался сдвинуться с места. Отогнув край рукава своей шубки, она посмотрела на часы. Сердце его защемило. «Она же кого-то ждет, — осенило его. — Вот и все…» Куда-то пропали спички, тщетно выворачивал он оба кармана своей куртки. «Все, все, все…» — стучало в висках.