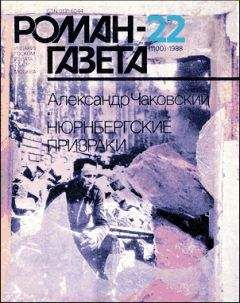Вскоре были заполнены все скамьи. Дикое, безумное желание овладело Хессенштайном: вскочить, вытянуть руку по направлению к Кальтенбруннеру и крикнуть «Хайль! Зиг хайль!». Он был уверен, что весь зал поддержит его приветственное восклицание…
Между тем на экране показали публику, находившуюся в зале суда: одетые в парадную форму военные, дамы в мехах, точно на премьере в театре, занимали галерею… «Позор, позор!» — кровь ударила в голову Адальберту. Как будто они пришли в зверинец посмотреть на экзотических животных!.. Адальберт опять грезил о невероятном: будто дело происходит в сорок четвертом году и те, кто сидит сейчас на скамьях подсудимых, неожиданно появляются на каком-либо собрании… Какими овациями встретили бы их! Конечно, тогда в зале сидели бы не эти, а другие люди…
Англичанин, которого диктор назвал лордом-судьей Лоуренсом, объявляет заседание трибунала открытым. Он предоставляет слово русскому и называет его «главным обвинителем от СССР». Адальберт снова впился в поручни кресла. Наконец-то! Наконец-то он из первых уст узнает, чего хотят от этого суда большевики, какую судьбу они уготовили руководителям рейха. Конечно, он не раз читал об этом в газетах, не раз обсуждал с Кестнером, но газеты газетами…
Главный советский обвинитель встал.
Он уже заранее был ненавистен Адальберту, этот человек с высоким лбом и выражением сосредоточенности на строгом лице. Хессенштайн ненавидел даже генеральские звезды на этих русских золотых погонах! Если поначалу подсудимые вели себя довольно свободно, писали и передавали друг другу и своим адвокатам записки, некоторые обменивались репликами, то теперь все умолкли — и в зале суда, и в кинозале. Адальберт напряженно вслушивался в каждое слово обвинителя, синхронно переводимое на немецкий.
— …Впервые, наконец, — говорил обвинитель (теперь Адальберт разобрал его фамилию: Руденко), — в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные, человеконенавистнические «теории» и «идеи», — он с презрительным ударением произнес эти слова, — ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечности…
К большой досаде Адальберта, диктор оборвал перевод, завершая выпуск:
— Майне дамен унд геррен! Мы передавали репортаж из зала суда над главными немецкими военными преступниками. Ход процесса будет освещаться в дальнейших выпусках кинохроники.
Даже несколько произнесенных русским обвинителем фраз не оставляли сомнений: большевики задумали смести третий рейх и его руководителей начисто, объявить великие идеи фюрера преступными и античеловечными, а нацистскую политику — «давно задуманными преступлениями»… Но неужели представители других стран-победителей присоединятся к этим страшным формулировкам?!
Скорее, скорее в Нюрнберг! Да, там опаснее, но там можно глядеть опасности в лицо, там Ангелика, там его родной дом, там можно встретить людей, оставшихся верными национал-социализму, таких, как Браузеветтер, один из самых близких. Разве патер Вайнбехер не призывал его, Хессенштайна, вернуться именно в Нюрнберг? Надо ехать, ехать, чтобы продолжать борьбу!
…И вот Адальберт в поезде, уносящем его домой. Он открыл глаза. Поезд снова замедлил ход, очевидно, приближаясь к станции. Люди опять столпились в проходе в надежде оказаться первыми на нюрнбергской земле. Хессенштайн ощутил новый приступ волнения.
— Через пятнадцать минут прибываем в Нюрнберг! — раздался хриплый голос проводника. Объявление вернуло Адальберта в сегодняшний день — нет, не только потому, что цель путешествия была совсем близко, дело в другом… Некогда фюрер приказал официально именовать Нюрнберг «городом партийных съездов», только так он обозначался во всех деловых бумагах, на вывесках и почтовых штампах. Название срослось с Нюрнбергом, и то, что сейчас проводник бесцеремонно отсек привычное добавление, отрезвило Адальберта.
Что же все-таки ждет его? Найдет ли он единомышленников? Как встретит его Ангелика? Цел ли дом? Мысль о доме тревожила его еще и потому, что от сохранности дома зависела сохранность ценностей и документов, которые Адальберт, когда будущее Германии оказалось под угрозой, зарыл неподалеку.
Это был хитроумный тайник. В нескольких шагах от дома сохранилась старая водопроводная колонка. Она уже давно бездействовала, с тех пор как водопровод провели в дом. Изящно сделанная колонка была украшена изображением какого-то мифического животного с широко раскрытой пастью — потому, должно быть, и уцелела. Она стояла на площадке из каменных плит, и однажды Адальберт после очередной многочасовой отсидки с Ангеликой в подвале подумал, что следующая бомбежка может не миновать их дом, вот тогда он и решил устроить тайник под одной из каменных плит, зарыть до срока ценности, которые принесла ему служба в гестапо.
Там было золото, оставшееся после сожженных в лагерных крематориях людей, — золотые коронки, кольца, броши, медальоны, украшенные бриллиантами. Но главным для Адальберта было не это, а две не особенно толстые записные книжки, тщательно обернутые в пергаментную бумагу, а потом в клеенку, чтобы никакая сырость не могла их повредить.
В этих книжках хранилось самое дорогое: имена орудовавших в концлагерях агентов гестапо, которые должны были следить за настроениями и поведением заключенных и своевременно извещать уполномоченного гестапо о «подрывных» разговорах, не говоря уже о группах, готовящих побег из лагеря.
…Наконец еще один толчок, те, кто стоял в проходе, снова повалились друг на друга, хватаясь за свои мешки и чемоданы; поезд остановился, на этот раз окончательно.
Нюрнберг
Адальберту показалось странным, что за окнами нет ни проблеска света. Конечно, на стеклах был достаточный слой грязи, но электрический свет, если бы он существовал там, на вокзале, наверняка просочился бы сюда… Ладно! Через две-три минуты он увидит, как выглядит теперь его родной Нюрнберг…
Однако, выбравшись из вагона, Адальберт понял, что это не вокзал, а какая-то товарная станция. Он шагал в цепочке людей по проходу в нагромождении разбитых автомашин, зенитных орудий, товарных вагонов, превращенных в щепу, шагал в кромешной тьме, напряженно вглядываясь и подсознательно ожидая, что сейчас из вечерней дымки выплывет Хаупт-Банхоф — главный вокзал Нюрнберга. Он не помнил, сколько времени шел, пока не увидел далеко впереди розовое марево — значит, город все-таки снабжается электроэнергией. Люди ускорили шаг, и вот наконец Адальберт оказался на вокзальной площади. Он не узнал бы ее, если бы не огромная чудом сохранившаяся башня Фрауэнтурм. А там, за ней… Бесконечные развалины показались Адальберту похожими на острозубые челюсти людоедов-гигантов.
«Куда же идти? Домой? А может быть, дома давно уже нет? — вновь со страхом размышлял Адальберт. — Или он сохранился, но там живут другие, чужие люди… Где тогда искать Ангелику?» В Нюрнберге у него много друзей, самый близкий — Браузеветтер. Пойти сначала к нему? Попросить его подготовить Ангелику к встрече с изуродованным мужем?
Нет, к Браузеветтеру он пойдет завтра, а сегодня — туда, к своему дому. Он верит, Ангелика все поймет…
Адальберт пересекает вокзальную площадь, идет по правой стороне улицы к церкви Лоренцкирхе. Останавливается и смотрит скорбно: кругом развалины, между ними, покачиваясь, гудя перегретыми моторами, пробирается несколько грузовиков с американскими солдатами. Но сама церковь, как ни странно, сохранилась, хотя и пострадала от бомбежки. Вот она перед ним — две высокие готические башни по обе стороны внушительного церковного строения. На каждой башне по кресту. Адальберт не был религиозен, но сейчас эта церковь, гордо возвышающаяся над развалинами, казалась ему символом какой-то высшей силы, которая выведет его на правильную дорогу.
Домой… домой!
Он миновал Лоренцкирхе, добрался до реки Пегнитц и по мосту Музеумсбрюкке перешел на противоположный берег. Обломки стен кое-где уходили прямо в мутную черную воду, Адальберт шел берегом, пока путь ему не преградила гигантская груда кирпича и щебня. Пришлось повернуть назад, к Музеумсбрюкка. Теперь он шел в толпе людей — их много было на улицах, в пальто с поднятыми воротниками, в потрепанной военной форме, в куртках, в шляпах, кепках и фуражках военного образца, они шли навстречу пронизывающему ветру, пробираясь в развалинах, перепрыгивая через каменные обломки.
«И это Нюрнберг!» — с горечью подумал Адальберт.
В его памяти он был поистине великолепен, один из старейших германских городов, жемчужина Баварии. В пятнадцатом веке Иоганн Зензеншмидт напечатал здесь первую в городе книгу. Ученые-германисты стремились сюда со всех концов света, чтобы приобщиться к бесценному фонду городской библиотеки, располагавшейся в здании некогда действующего доминиканского монастыря. Туристы постоянно толпились у одной из башен замка Кайзершлосс, обиталища «Железной девы», любовались памятниками географу Мартину Бехайму, создавшему первый глобус, и часовых дел мастеру Петеру Хенлейну, прославившемуся на весь мир, восхищались фресками Дюрера, украшавшими городскую ратушу.