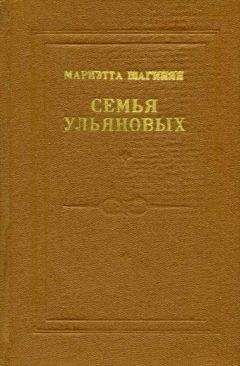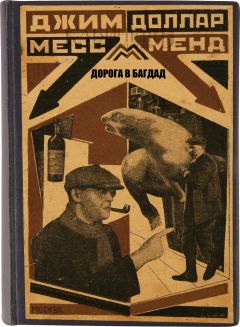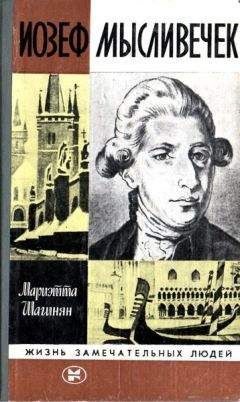Няни нет — все делает мама. И гулять на откос водит мама. Она опять стройна, как в девушках, а ей уже за тридцать. Прохожие заглядываются на нее.
Соседки уже привыкли к ее манере хозяйничать и воспитывать детей, но за глаза нет-нет да и посудачат. По-европейски культурная Наталья Александровна, рыхлая и добродушная Шапошникова, веселая Виноградская, затевающая суматоху с детьми, — они были во всем равные, у каждой было что вспомнить из собственного детства. Одна выросла в дворянском поместье, где все велось на широкую ногу; другая — в купеческом доме, с кивотами по углам комнат, мерцавшими днем и ночью желтым огнем лампад; третья — в полковых переездах, в постоянно сменяемых, на скорую руку обставленных офицерских квартирах. Но при всей разнице в воспитании они сходились на том, что Мария Александровна «мудрит с детьми». В чем мудрит — было не совсем ясно.
Если разобраться, дел и забот у взрослых всегда по горло, и дети — так думалось Наталье Александровне — естественный сопровождающий элемент в семье. «Как это можно — без детей», — говорила и Шапошникова, а Виноградская иной раз, вспоминая собственную жизнь, вздохнет, и вырвется у нее: «Что вы там ни говорите, а дети — такая обуза! Дети пойдут — и скажи прости личной жизни».
На дочерей в семье Улыбышевых ничего не жалелось. Сколько бонн и гувернанток встает в памяти Натальи Александровны! Бонны выписывались из Германии; гувернантки — англичанка, швейцарка, француженка — переходили с рекомендациями из других знатных семей. И с первого дня, как приезжал новый человек в дом, Наташа Улыбышева подсматривала из-за дверей, а эти новые люди — худая англичанка с длинной шеей и влажными, словно слезились они, глазами; круглая, кудреватая швейцарка, стучавшая по паркету каблучками; или очень бледная, кареглазая, с нездоровым лицом и в рюмку стянутой талией француженка, — обязательно, прежде чем с девочками, знакомились со взрослыми и позднее тоже как будто интересовались больше взрослыми, чем своими питомцами. Наталья Александровна помнит, как они приходили в кабинет к отцу, и скоро неслись оттуда непринужденные речи на иностранных языках о том, о сем, больше о принципах воспитания вообще. И обязательно выслушивал новый человек родовую историю странной фамилии Улыбышевых, как защитил грудью один храбрый русский воин князя Димитрия Донского и тот отдал за него в благодарность свою единственную дочь Улыбу; «мы народ улыбающийся, nous sourions á nos malheurs», — шутил отец. Гувернантки улыбались в ответ. В общем, это было превосходное воспитание и образование при всей безалаберщине и суете в доме. Но когда устраивались балы или музыкальные вечера в их деревянном лукинском доме, полы трещали и стены дрожали в детской, двери хлопали в коридоре, голос француженки, спешившей послушать музыку, только досадой звучал, когда она забегала в детскую: «Пст, пст, dormez, dormez, ma mignonne», — словно девочка сама была источником шума и не желала заснуть; и никто не обращал внимания на перекочевку ее из классной куда-нибудь в мезонин, передвижку ее завтраков и обедов во времени, если это требовалось распорядком дня взрослых. Жизнь детей приноравливалась к жизни по-европейски культурного отца. И все вокруг постоянно говорили, что Улыбышевы ничего не жалеют для образования дочерей, да и сама Наталья Александровна думала так.
А склад жизни Ульяновых резко отличался от этого привычного склада. Мария Александровна совсем не баловала и, казалось, вовсе не ласкала своих детишек, между тем жизнь ее и мужа ее, молодых еще людей, как будто приноравливалась к тому, что нужно и полезно растущим детям.
— Как вы считаетесь с такими малышами! — удивленно сказала ей на пятый год знакомства Наталья Александровна, когда Ульянова прекратила в столовой какой-то неподходящий, осуждающий ближнего разговор, а вечером отказалась устроить в столовой фанты, сославшись на то, что дети разволнуются и не заснут вовремя.
— В этом возрасте образовываются привычки, — отозвалась Мария Александровна, — я смотрю на это как на фундамент к характеру. — И тотчас покраснела слегка, но разговор продолжила, хотя собственные слова показались ей чересчур книжными: — Надо с детства приучать детей к своему времени во всем, чтоб не было хаоса. Тогда у них выработается внимание, уважение к себе.
— Ну, это вы чересчур мудрите, голубушка Мария Александровна! — воскликнула Шапошникова, вслух высказав общее мнение.
В одну из своих прогулок с детьми по откосу Мария Александровна вдруг вскрикнула и закрыла глаза ладонями: маленький Саша кубарем покатился с откоса. Аня, раскрыв рот и оцепенев, глядела, как он секунду мячиком катится вниз с дорожки на дорожку, а на третьей дорожке стоит большой дядя в длинном желтом сюртуке, с пышным бархатным бантом на шее, расставил ноги и руки — стоп — и подхватил Сашу, как мячик. У Саши лицо смешное и трепаное, из-за пояса углом вылезла рубашечка, но он стал на ножки и ничуть не плачет…
— Мама, мамулечка, гляди, Сашу дядя опять на ножки поставил!
Мария Александровна раскрыла глаза, переконфуженная за свою слабость.
— Благодарю, благодарю вас! Ах, Сашенька…
Всем усилием воли она подавила волнение, словно и не произошло ничего, только оправила рубашечку на взъерошенном сынишке. И дети от этого спокойного движения материнской руки и ее лица, такого знакомого и всегдашнего, тоже мгновенно успокоились и, взявшись за руки, пошли дальше. Она не сказала им, чтоб они «не смели ходить близко к откосу», не поругала Сашу за неосторожность, а дочь за то, что выпустила Сашину руку. Она только сама передвинулась с края дорожки на самую ее середину, и Аня, поглядевши на мать, озабоченно подтянула брата подальше от скользкого откоса, тоже на середину дороги.
Вечерами они и теперь, всем коридором, собирались друг у друга, чтоб почитать вслух. Чтение уже было другое, в журналах начал меняться весь тон. Лесков-Стебницкий явно пошел в гору, Тургенев написал «Дым», разруганный либералами. В «Отечественных записках» беспокоятся о сусликах, что они объедают поля; а писательница Марко Вовчок, нахваленная еще Добролюбовым за смелую повесть о крепостной девочке, пишет роман на модную тему о «пострадавших» — сосланных и томящихся в тюрьмах, выводя их ничтожными болтунами. Сегодня они должны были читать большой, печатавшийся по частям патриотический роман графа Льва Толстого «Война и мир». Толстой выводил в нем исконное, старинное среднее дворянство, далекое от двора, от чиновных выскочек, выводил Москву как бы в противовес придворному Петербургу, и его роман становился знаменем для нового поколения. Каждое десятилетие люди читают книгу по-своему, и большая книга растет с человечеством, а маленькая умирает со своим поколением.
Марии Александровне очень хотелось слушать продолжение «Войны и мира». Но в этот вечер она осталась с детьми и затеяла с ними такую интересную игру, что всякое воспоминание о падении с откоса испарилось из головок детей. Саша давно уже спокойно спит, рассыпав длинные волнистые волосы на подушке, но уйти от детей она никак не может. Аня засыпает куда медленней, чем Саша. Коротко остриженная девочка лежит с открытыми глазенками, изо всех сил стараясь согнать с ресниц сон. И все просит мать посидеть с ней, все держит мать за руку. Мария Александровна потянет тихонько руку и соберется встать, а девочка опять сжимает ее и целует горячими губами.
— Мама, мамуленька…
Ей хочется сказать матери, чтоб они всегда так играли, хочется выразить, как она благодарна ей, какая особенная ни на кого не похожая, лучше всех, всех, всех мама у них, но слов нет, и противный сон тянет вниз за ресницы. Аня выпустила руку, отвернулась к стенке и заснула.
А игра в этот вечер и в самом деле вышла замечательная. Они играли в дорогу.
Мать сдвинула стулья, на передний стул взобрался с кнутиком Саша за ямщика, он погонял два опрокинутых толстых кресла по их бахромчатым бокам и кричал: «Но-о! Но-но-но!» А они с мамой сели в платках на стулья сзади него, и это была большая дорожная почтовая колымага, с ящиком под сиденьем, с буфетным отделением, с ножами, ложками и вилками, бутербродами в бумажке — из вкусного ситного хлеба с маслом и бутылкой теплого молочка. Едут они, а мама рассказывает:
— Вот бежит, бежит дорога, версты по сторонам, въехали в густой-густой лес. Солнце не светит сквозь лес, стволы стоят белые, и ветки поникли, и сумрак внизу, между стволами, — это буковый лес. Вдалеке трясет бородой седой старик, он едет медленно, борода его вьется между стволами, на голове корона, глаза, как у филина, горят — гони, гони, Сашенька, это царь лесных гномов, он гонится за нами, он вытянул руку, но… — Аня хохочет, жмется к матери, а другой рукой крепко хватает Сашу за пояс, — но он нас не тронет…
И мать вполголоса запевает детям тихую Шубертову мелодию на бессмертную балладу Гёте, перефразируя последний стих по-своему, в чудный, благополучный конец.