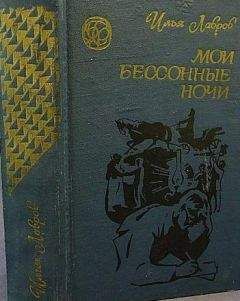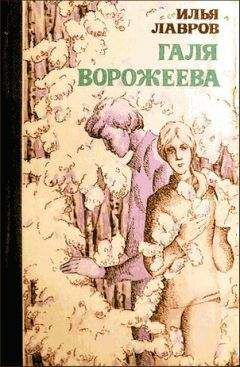И вдруг Вяткин, сокрушенно почесывая худую, запавшую щеку, ошарашил:
— Слабовато, дорогой! Рифмы плохие. И не везде они есть. И размер ты не выдерживаешь. Это значит строчки у тебя разной длины. Да и неграмотно кое-где. И потом — у тебя весна, ручьи, мокрый лед, а сейчас уже лето, сухо, жара.
У меня все так и оборвалось в душе. Будто меня унизили. Так бы и провалился сквозь землю.
Я ушел, чувствуя себя разгромленным, опозоренным. Теперь я был уверен, что поэта из меня не получится. Рушились все мечты. Плелся по улице, полный отчаяния.
Так я впервые вкусил горечь творческого поражения…
Я окончил третий класс.
Летом всю нашу Бийскую улицу рассекла глубокая, узкая щель траншеи. Ее копали лопатами мускулистые здоровяки без рубах, в брезентовых рукавицах. Землекопов не было видно, только летели вверх желтые комья глины да сверкали, показываясь на миг, надраенные о землю лопаты.
Вечерами мы бегали вдоль траншей по красноватым хребтам свежей глины. Она гулко сыпалась на дно ущелий.
Потом привезли трубы, и рабочие стали опускать их в траншеи.
Отец иногда останавливался возле них, курил, хмуро следя за работой.
— Язви тебя, — слышалось порой его бормотанье.
Трубы засыпали весело, быстро. Мы, ребята, помогали рабочим, тоже сбрасывали и утаптывали глину.
Трубы оказались певучими. Когда градом посыпались на них комки земли, они запели сначала басом, а потом голос их начал повышаться, торопиться и наконец перешел в плачущий тенор, а затем и совсем замолк под слоем земли.
На углу выросла бревенчатая будка с длинным, гнутым краном. Белели новенькие стропила, еще не обшитые досками, торчала клетчатая, кирпичная труба.
Плотники отдыхали в тени, курили, сидя на чурках. К будке были прислонены только что оструганные фуганком золотистые доски. Валялось много пахучих щепок и стружек. Земля была засыпана опилками. Пахло смолистым тесом.
Мы с Бычей собирали в корзинку щепки.
Город пыхал июльским зноем, как натопленная печь. Жар обдавал тополя с вяло обвисшими листьями, просушенные до звона заборы, дома, вспотевшие янтарными каплями. Босые ноги шлепали по мягчайшей пыли, горячей, как зола в костре. Тени, будто выкроенные из черного сукна, делали пылкий свет еще более ослепительным.
На водовозке подъехал отец.
Плотники попросили напиться. Он налил им полное ведро, поставил на верстак возле стены.
Изморенные жарой, рабочие долго и жадно пили, слегка наклоняя ведро обеими руками.
— Когда заканчиваете? — сухо спросил отец, смахивая со лба пот рукавом.
— Крышу покроем, и все, — ответил степенный старик с узкой, длинной, как у святого, бородкой. На нем была выцветшая синяя рубаха навыпуск, подпоясанная ремешком. Она промокла на спине от пота. Отец помолчал, поправляя сбрую и, будто между прочим, снова спросил:
— Ну, а вообще, когда вся эта музыка заработает? — он махнул рукой вдоль свежей, желтой полосы засыпанной траншеи.
— Начальство грозилось дать воду через месяц.
— Весь городишко изрыли, проехать негде, — проворчал отец.
— Каюк твоей водовозке, батя! — рассмеялся молодой, голый по пояс плотник. На груди его голубой орел распластал крылья. — Прямая дорога тебе сюда в будку. — Он показал на окно за железной решеткой. — Сиди себе да покуривай, получай талончики да поворачивай краники. Тут за день со всеми бабами можно покалякать. Глядишь, какая-нибудь и сдобрится. Этакая дебелая, с подоткнутым подолом! Эх! — парень смачно крякнул. Отец криво усмехнулся:
— Да только это теперь и осталось! — он выплеснул из ведра оставшуюся воду, повесил его на кран водовозки.
— Подкузьмили, значит, тебя, — веселился парень. — Сковырнули с насиженного места!
— Не меня одного, тут пол-России сковырнули, — заметил отец.
— Это верно, — согласился степенный, пропуская через мосластый, темный кулак светлую бородку. — Всему большой пересмотр идет. В наше время молиться было хорошо, а теперь — плохо, богатому был почет, а теперь — тюрьма. А в городе что творится? Старые домишки кварталами сковыривают. Кирпичные на их места возводят.
— Всем вам теперь хана, старорежимники! — заключил веселый парень с голубым орлом на груди и, поплевав в ладони, взял топор.
Отец зачмокал губами, дернул вожжи. Гнедко проснулся, подобрал отвисшую губу и тихонько тронулся.
И вдруг отец в ярости ожег его спину вожжами, заорал:
— Но-о, кляча!
Гнедко дернулся, загремело ведро, из-под крышки хлестнули фонтанчики воды, запылили колеса…
А однажды по кварталу пронесся крик мальчишек:
— Вода пошла! Вода!
Мальчишки, девчонки, женщины выбегали изо всех калиток, гремели ведрами, коромыслами, перекликались. Бежал и я, махая крашеным, синим ведром.
В окне с решеткой виднелась наша соседка Коробочка, нарумяненная, с подведенными бровями. Теперь она стала хозяйкой воды.
Сразу же вытянулась веселая, шумная очередь. Внизу окна был лоточек. Выдвинется он, положишь в него талон, лоточек юркнет обратно, а ты только поспевай, суй ведро под трубу. Струя, прозрачная, студеная, как хватит, только ведро зашатается, запоет.
Раз десять я сбегал к водокачке, пока не натаскал матери целую кадку студеной воды. А днем вернулся злой отец с полной бочкой. Пустили водопровод, и все отказались от водовоза.
Опять вырвали у отца землю из-под ног.
Он хотел было перелить воду в кадку, заглянул в нее, а она уже с краями. Ничего не сказал, ушел под навес, долго царапал скребницей коня. Потом вывел его на середину двора и начал обливать водой. Нальет из бочки ведро и хлестнет лошади на спину. Она только присядет. А отец другое ведро в бок, под брюхо, в плоскую шею залепит с размаху комом воды. Гнедко шарахается, мотает башкой, весело фыркает. С коня сыплется золотой дождь. Всю бочку вылил на него отец. Потом расчесал ему мокрую гриву, хвост.
Вечером привел соседа Лиманского, цыгана. Показывал ему Гнедка, водовозку, сани.
Они долго курили под навесом, о чем-то горячо спорили, рядясь, били друг друга по рукам. Наконец, зажав полой пиджака повод, отец передал Гнедка цыгану. Продал он ему и телегу, и сани, и гулкую бочку.
А через несколько дней распахнулись ворота, и отец вкатил, сидя на козлах легковой пролетки с поднимающимся кожаным верхом. Мелькали белые спицы тонких, высоких колес с резиновыми шинами. В красиво изогнутых черных оглоблях играл молодой жеребчик Воронко. Стройный, резвый, он пофыркивал, взбрасывал голову, косил на меня жаркий, радостный глаз.
Сбруя нарядная, в медных вспыхивающих бляхах, в свисающих махорчатых кистях, синие вожжи не кожаные, а плетеные из шнуров. Легонькая, дивно изогнутая, зеленая дуга позвякивала блестящим кольцом.
Отец сидел лихо, вытянув руки, будто не мог сдержать рысака. С особым щегольством и ухарством он пронесся по двору, круто развернулся, описав полукруг, и красиво осадил коня у крыльца. Лошадь слушалась малейшего движения его рук. Отец явно похвалялся своим кучерским мастерством. Таким я еще не видел его.
— Ну, мать, не знаю, что будет! — проговорил он, молодцевато соскакивая на землю. — Все деньги до единой копейки ухнул. И еще в долг залез.
— Даст бог и наладятся дела, — проговорила мать.
Теперь отец стал легковым извозчиком. Целые дни торчал он на «бирже», поджидая седоков то у вокзала, то у пристани, то возле площади.
Экипажи стояли, вытянувшись друг за другом, соблюдая очередь. Извозчики собирались группой, курили, сетовали на жизнь, на цены, на зверские налоги, на установленную властями таксу, а иногда и, прячась за пролетки, тянули из горлышка водку.
Воронко оказался не таким уж молодым и резвым, отремонтированная перед продажей сбруя и пролетка недолго хранили свою красоту. Сквозь нее быстро проступила залатанная старость, и отец был по-прежнему мешковатым, как водовоз.
К Шуре иногда приходили монтеры, работавшие вместе с ним. Чаще других — Васька Князев и Степан Токарев, по прозвищу Колчак. Был он простой и общительный парень, но природа наградила его надменным, горбоносым, узким лицом. Кто-то решил, что он похож на битого адмирала, и окрестил его Колчаком.
Вечерами Колчак занимался в театральной студии Пролеткульта. Собираясь стать актером, — а он им потом стал, — Колчак не прочь был пофрантить. Он носил галстук, а то цеплял и черную бабочку.
Еще бывала у нас студентка сельхозтехникума Саша Сокол. Она приходила в сапожках, в защитного цвета юбке и гимнастерке с широким ремнем и портупеей. Такой костюм называли юнгштурмовкой.
Сашка здорово смахивала на парня. Из-под ее сдвинутой на затылок кепки торчал соломенный вьющийся чуб. Мне нравилось ее круглое, пухлое лицо с серыми отчаянными глазищами.