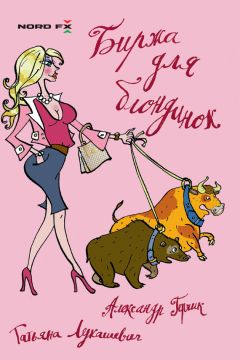— Подождите. Большая мануфактура на проводе.
Он ждет. Ждет долго. Он представляет себе чужой разговор:
— Как по суровью?
— Подбиваем по суровью…
— Значит, вытягиваете?
— Вытягиваем…
— По миткалю?
— Подбиваем по миткалю…
— А по чесуче?
— Подбиваем по чесуче…
…Телефонный звонок, дребезжащий и долгий, вонзился в утренний сон семьи, как сигнал бедствия. Он разбудил всех, но никто не поднялся.
— Что это? — испуганно спрашивает моя жена.
— Одна наша старая родственница. Наверное, опять денег просит.
— Хоть бы она подохла скорей, — вздыхает жена и натягивает одеяло на голову.
— …Не отвечает ваша Москва, — сказала со злобой телефонистка.
— Они спят… они проснутся… Очень вас прошу, попробуйте еще раз…
Телефонистка покрутила ручку аппарата еще и еще. В трубке послышались разряды, шелест, словно ветер проплутал осенней лесной дорожкой; тонкий гудок, тихий и частый постук, будто дождик барабанит по листьям; вдруг какая-то музыка возникла далеко, резко нарастая в силе, приблизилась и снова отхлынула, исчезла вдали. Голос пространства тревожен и печален, от него щемило сердце. И вдруг далеко-далеко, с другого конца света, но совсем отчетливо услышал он голос своей бывшей жены:
— Да?..
Тоненькая ниточка наконец-то протянулась к нему, и, как ни тонка она была, он почувствовал себя сильней близостью ныне чужой, пусть закрытой для него навсегда семьи. Он закричал:
— Здравствуй, Катенька!.. Как вы живете все?..
— Ничего. — Голос сух и отстраняющ. Но может быть, это расстояние делает его таким?
Крепко зажав в руке трубку, словно боясь, что ее отнимут, он кричит:
— Как Сережа?..
— Ничего…
— Что он поделывает?..
— Ничего…
В голосе раздражение. Интонация, знакомая ему с давней поры их близости, — но менее всего ожидал он встретить ее сейчас. У него заболело сердце глухой тревожной болью. Он не может спросить, как не мог спросить все эти годы: за что с ним так? Ему вспомнилась длинная, трудная дорога, которой он шел сюда и которой ему предстоит идти назад…
…Стоя босыми ногами на полу, бывшая жена отчетливо слышала все большую робость, потерянность его голоса. Но что могла она поделать? Если б хоть не так рано было, она бы нашлась, но не варит тяжелая со сна голова. Сказать бы хоть что-нибудь.
— Как твое здоровье?
— У меня две болезни: сердце и очень хороший аппетит, — шутит он с другого конца света. Она чувствует слабую надежду в его голосе.
— Ничего не поделаешь, всем худо, — говорит она — совсем, совсем не то, чего он ждет, говорит и сама чувствует это. Ей хочется сказать, что она не виновата, но не находит слов, и тоненькая ниточка обрывается.
А что было ей делать? Она не могла даже назвать его по имени — у сына ночевала жена, а жена ничего не должна знать. Боже упаси, чтобы она догадалась…
Ненасытная жадность рохомских хозяек привела отца в «каморки» — нечто вроде рабочего общежития при Большой Рохомской мануфактуре. Громадное четырехэтажное кирпичное здание «каморок» было построено еще Кущинским, прежним владельцем фабрики, в этом угадывалась какая-то либеральная затея.
Комнаты общежития с высокими потолками и большими окнами выходили в широкие, просторные коридоры, тянущиеся во всю длину здания. В конце каждого коридора располагались обширные общественные кухни и места общего пользования. В нижнем этаже находились душевые и прачечные. «Каморки», как окрестили в Рохме коммуну Кущинского, не имели успеха. Рабочие стремились к земле. Одинокие достигали этого женитьбой на коренных рохомчанках, семейные предпочитали ютиться в убогих лачужках, но при своем наделе. В результате «каморки» стали обиталищем рабочих подонков: безмужних баб, гулящих девок, пьянчужек, словом, всякого деклассированного сброда. В пору революции и разрухи состав обитателей каморок стал еще более пестрым: какие-то странники и странницы, безногие и безрукие солдаты, ничьи «жонки» с многочисленными детьми; густое человеческое месиво набило их от душевых и прачечных до мест общего пользования. Пустовали лишь кухни: огромные, никогда не озарявшиеся веселым треском огня плиты не оставляли «жизненного пространства».
В иных комнатах ютились по две-три семьи, в иных располагался на просторе один-единственный владелец или владелица. Все комнаты слали в коридор густые, несвежие запахи еды и, словно гигантские шмели, неугомонно жужжали примусами. Кухнями Кущинского от веку никто не пользовался, они были построены в расчете хоть на какое-то общественное начало в быту обитателей каморок, и это сразу определило их нежизнеспособность. Даже совместная закупка дров оказалась недоступным делом для этих разобщенных, подозрительных, тайно и явно ненавидевших друг друга людей.
Коренные рохомчане от души презирали обитателей «каморок». Жить в «каморке» — значило морально опуститься, безнадежно пасть в общественном мнении. Отца это мало тревожило, его огорчало другое — он не имел тут отдельной, пусть бы и плохонькой комнаты, а снимал угол у хозяйки, богомольной суздальской «жонки» немолодых лет, работавшей в какой-то артели.
Когда я посетил отца в этом новом его обиталище, то понял, что его не будут тут донимать ни непрестанно растущей квартирной платой, ни платой за услуги: остывший самовар утром, горшок холодной каши вечером. Опасность подстерегала его с другой стороны.
Хозяйка с постным, будто обмазанным лампадным маслом лицом и блестящими, слишком живыми глазами, поглядывала на отца, как мышь на крупу. Бесшумно и быстро перенося по комнате свое легкое тело, округло выступающее из широкого платья, она все время рылась то в постели, то в комоде, то в шкафу, словно никак не могла отыскать нужную ей вещь. Она придумала себе это занятие, чтобы не оставлять нас вдвоем. То ли она опасалась, что я настрою отца против нее, то ли ее возбуждало присутствие двух мужчин. Я чувствовал, что дело может плохо кончиться для моего слабого, неспособного на сопротивление отца.
Наконец хозяйка вызвалась купить водки. До этого я ни разу в Рохме не пил. Мы дали ей денег, и, обвязавшись глухим шерстяным платком, она выметнула в коридор свое беспокойное тело.
— А хозяйка явно имеет на тебя виды, — сказал я отцу.
— Боюсь, что да, — согласился он. — Она расхаживает по ночам в белой рубашке, похожей на саван, и мне кажется, что это смерть… У меня есть тут подруга, — продолжал отец. — Фиса, очень милая женщина. Мы после зайдем к ней, я давно хочу вас познакомить.
— Кто она такая?
— Ткачиха. Муж погиб на фронте, остались двое детей, мальчик и девочка. Мальчик необыкновенно туп, в каждом классе сидит по три года. Ему скоро призываться, а он едва перешел в пятый класс. Девочка — живая и довольно способная, но льстивая и хитрая. Она пробовала называть меня папой, но я решительно это пресек.
— Значит, у меня появились сестрица и братец?
— Нет, нет! — с наивной серьезностью успокоил меня отец. — Этого никогда не будет. Фиса — бескорыстный человек, она ничего не требует от меня. Ее очень осуждают за то, что она связалась со стариком и «не пользуется», как выражаются местные «жонки». Она действительно очень привязалась ко мне.
— А почему бы тебе не жить у нее? Все лучше, чем в этих «каморках»!
— Видишь ли, тут произошла трагическая история. Фиса жила в доме у одной старухи, ухаживала за ней, кормила, поила, и за это старуха должна была после смерти отказать ей дом. Старуха оказалась на редкость живуча и прожорлива, Фиса совсем с ней замучилась. Наконец старуха умерла, тут было такое счастье! Я купил бутылочку портвейна, Фиса испекла пирог. Как-то, недели через три, я ночевал у Фисы. Вдруг среди ночи — стук. Вваливаются двое нищих-слепцов, муж и жена, дальние родственники покойной и законные ее наследники. Кто-то разыскал этих слепцов и сообщил им о наследстве. У меня чуть сердце не разорвалось от жалости…
— Ну, и что было дальше?
— Слепцы переночевали на полу, а утром, когда я проснулся, то услышал какой-то щелк: они ловили друг на друге вшей. Это было отвратительно, хладнокровно заметил отец. — А потом они устроили ревизию имуществу, обнаружили, что прохудилась самоварная труба, и уехали за новой трубой в Пензу.
— В Пензу за трубой?..
— Так ведь слепые ездят без билетов, а в поездах подают лучше, чем на улице. Мне кажется, — задумчиво добавил отец, — они не останутся тут надолго, в Рохме ненавидят нищих. Старик целый день простоял у проходной нашей фабрики и не собрал даже на стопку водки.
— Но они могут продать дом!
— Кто его купит? Полуразвалившаяся, гнилая хибара. На худой конец, дело идет о сотне рублей, я помогу Фисе. — Отец улыбнулся. — Приятно на склоне лет стать домовладельцем.