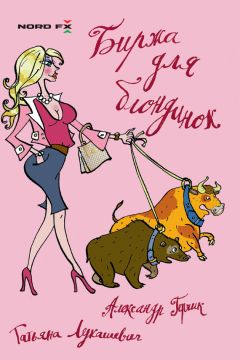— Знакомишься с моими опытами? — проговорил отец. Уютно устроившись на кровати, он курил, сбрасывая пепел мимо вазочки, заменявшей ему пепельницу. — Я хотел развить тут одну мысль Толстого, по-моему, недостаточно оцененную…
Ужас «каморок», Фисанька, слепцы с самоварной трубой, вся мразь и жалость рохомской жизни не коснулись отца, словно он был заключен в незримую и непроницаемую оболочку. Он жил широко и вольно, не теряя связи ни с чем в большой жизни; лишенный всего, что составляет обиход человека, он ничего не лишился в себе, но не делал из этого позы, и оттого мне, молодому, суетному и слабодушному, так трудно было увидеть настоящую его высоту.
Я долго думал об этом, лежа на жесткой постели с потухшей папиросой в руке. Отец давно уснул, как умер, столь тихим, неслышным было его дыхание, но еще долго огромной летучей мышью металась по комнате хозяйка в сером балахоне, томимая своими беспокойными и тщетными желаниями.
Прошли годы, странная формула «семь и четыре» наконец-то исчерпала себя. Отцу вернули все права свободного гражданина. Теперь он мог расстаться с Рохмой и переехать в Тейково, или Нерль, или даже Шую, более крупные города не рекомендовались. Теперь он не должен был каждый месяц являться к районному уполномоченному МВД, достаточно было приходить раз в три месяца. Теперь он мог проводить свой отпуск, где ему заблагорассудится, конечно, с разрешения того же уполномоченного. Словом, он был свободен, как ветер. И, опьяненный своей новой свободой, отец собрался в Москву. Ему пришлось трижды перекладывать отпуск; районный уполномоченный, не решаясь взять на себя ответственность, запрашивал область, а та, в свою очередь, сносилась с Москвой. Наконец весной 1948 года разрешение было получено, и в один из солнечных майских дней отец постучался в дверь нашей квартиры.
Мы его ждали. Мама сменила неизменный халат на юбку и кофту, причесалась и даже подтянула чулки. Дашура побрилась и надела чистый фартук. Лицо у нее было заплаканным, но не от растроганности. Я попросил испечь лепешку, как в доброе старое время, а Дашура по дряхлости забыла рецепт, за что ей жестоко досталось от мамы.
Дашура открыла дверь, поздоровалась с отцом и вышмыгнула на лестницу, чтобы забрать его чемодан.
— Ну, здравствуй, — сказала мама, подходя к отцу.
— Здравствуй, Катенька.
Они поцеловались, грустно и спокойно, старые люди, у которых все осталось позади, в такой дальней дали, что и вспоминать о прошлом не к чему, да и не хочется. И оба замолчали.
Людям, встречающимся каждый день, всегда есть о чем говорить, для них важны и увлекательны все мелочи, вся суета повседневности; людям, не видевшимся десятилетия, говорить не о чем. Маленькое ушло, а главное ясно и без слов: оно запечатлено в морщинах, в седине волос, в собачьей кротости глаз. Встреча после очень долгой разлуки — все равно что новое знакомство, а они были не в том возрасте и слишком устали, чтобы заводить новых знакомых.
Им не надо было ни притворяться друг перед другом, ни просить прощения за взаимную душевную бедность — то, что их связывало, было прочно и нерасторжимо, все остальное ничего не значило.
— Ты мало изменилась, — проговорил отец, потрясенный переменой в мамином облике.
Мама лишь устало отмахнулась.
— Да… вот цветочки. — Отец протянул букетик тускло-красных и желтых бессмертников.
— Разве можно приносить в дом бессмертники? — сказала мама. — Это плохая примета.
Отец никогда не разбирался в цветах, наверное, он думал, что это маргаритки.
— Других не было… — пробормотал он смущенно.
Мама взяла бессмертники и поставила в вазочку на комоде, там они стоят и по сию пору.
— Хочешь принять ванну? — спросила она. — А Дарья приготовит завтрак.
— С удовольствием! — сразу оживился отец — запахло уютом.
Отец не умел зажигать газ, он никогда не видел газа в квартирах. Его по-детски обрадовало, когда при повороте рычажка вспыхнули фиолетовые побеги пламени и тонкая струйка воды, вмиг нагревшись, запарила.
Едва мы сели к столу и Дашура с сумрачным лицом подала яичницу-глазунью и обгорелый кругляк, напоминающий любимую нашу лепешку, как в дверь постучали. Отец испуганно и вопросительно взглянул на маму. Этот взгляд открыл мне, что он кое-что понял из моих подлых недомолвок и околичностей.
— Ступай в ванну! — сказала мама отрывисто.
Отец юркнул в ванную комнату, мама вышла в коридор, притворив за собой дверь. Пришла ее приятельница и соседка, дама в круглых очках, въедливая, любопытная и проницательная. Не знаю, о чем они там говорили, но в комнату мама ее не пустила. Видно, та заподозрила что-то, вся мамина нелюбезность разбивалась о настырное желание приятельницы проникнуть в нашу тайну. Наконец хлопнула входная дверь, и я выпустил отца из заточения. Что-то еще порвалось в душе, уж слишком грубо все это выглядело.
— Кто это был? — спросил отец с любопытством.
— Знакомая, над нами живет.
— А она…? — Отец не договорил, поскольку и без того было ясно, что он имеет в виду.
Мать пожала плечами. Отец все-таки не до конца понимал наши и свои обстоятельства. Он думал, что надо опасаться лишь некоторых зловредных людей, а мы вынуждены были скрывать его ото всех.
— Мы должны думать о Сереже, — с присущей ей жесткой прямотой сказала мать. — Сейчас опять сажают почем зря. Если надо будет, Сережа отречется от тебя, от меня, от черта и дьявола.
— А Сережина жена знает, что я приехал?.. — неуверенно проговорил отец.
Мать сделала большие глаза.
— Ты с ума сошел!..
Отец замолчал, ушел в себя, наконец-то он понял. Видимо, в эту минуту в нем рушились какие-то последние иллюзии. И вместе с тем он знал теперь, как непросто и нелегко мы живем, суровая мамина прямота сняла тот налет оскорбительности, который проглядывал для него в моей полуправде. Он понял нашу загнанность и нашу борьбу, понял настолько, что, когда прозвенел телефонный звонок, сам кинулся в ванну.
Мама остановила его чуть раздраженным жестом: она высказала то, что должна была сказать, но все же ей было тяжело.
— Никого нет дома! — крикнула она Дашуре. — И двери тоже не открывайте!
— Ну как же я не открою?.. — завела Дашура.
— Так вот — не откроете! Нечего всякой сволочи сюда шляться!..
Но не так уж в жизни все плохо. Добрый и отходчивый характер отца превозмог и это новое угнетение — как-никак он был в Москве, с единственно близкими ему людьми, и этого уж нельзя было отнять у него. Он шел сюда путем неимоверных мук, терпения и стойкости, он был почти мертв, но он выжил и дошел, и как ни печальна его победа, все же это победа. И вкусная домашняя глазунья, домашняя, пусть чуть подгорелая лепешка, и кофе со сливками — совсем немалая награда победителю. Он снова стал оживлен, остроумен и так уютен, как только он один умел быть за столом. Он выпил чашку кофе и еще чашку, затем еще одну, последнюю, после чего со смешливо-испуганным выражением попросил еще одну, самую последнюю.
Я посмотрел на маму, она улыбнулась мне. То была очень редкая у мамы, незащищенно-добрая, растроганная улыбка. И почему-то я сразу уверился, что не унизительное и гадкое останется после этой поездки в душе отца, не бегство в ванну и вздрог от каждого телефонного звонка, а наша, пусть испуганная, пусть жалкая, преданность ему.
Конечно, отцу во многом по-иному рисовалось возвращение в Москву. Он думал, что его окружат друзья былой, лучшей поры, что в долгих, дружеских разговорах увяжут они прошлое с настоящим, отчего все пережитое обретет новую ценность. Но поколение его сильно поредело — кто умер, кто пропал в ссылке, кто погиб на войне. Уцелело всего лишь несколько могикан. То были люди настолько старомодно-порядочные, что отцу не возбранялось видеться с ними. Но первые же попытки отбили у отца охоту к возобновлению былых связей. Его встречали безнадежно постаревшие, ни в чем не преуспевшие люди, задавленные страхом почти до полного равнодушия. Даже самый благополучный из них, профессор, с которым у отца было в молодости и соперничество, и какие-то сложные счеты, произвел столь жалкое впечатление, что отец вернулся от него с чувством полного удовлетворения.
Это и огорчало и как-то успокаивало отца. Что ни говори, а собственная судьба уже не кажется такой бедной, когда видишь, что другие, прожившие куда в лучших условиях, не очень-то ушли вперед. Лишь перемена в женщинах глубоко трогала и печалила отца, тут он был до конца бескорыстен. Он обладал необыкновенной способностью встречать на улице знакомых, в первый же свой выход он столкнулся с одной большой любовью и двумя мимолетными близостями.
— Что случилось с Анной Семеновной! — говорил он, делая страдальческое лицо.
— То же, что и со всеми нами, — годы, — отвечала мать.