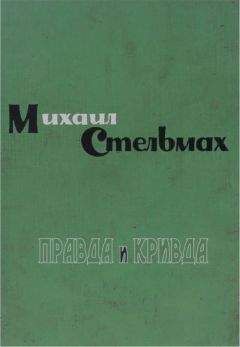С невеселыми мыслями ложился Марко. Он долго не мог уснуть, а когда сон начал плести возле глаз свою теплую основу, ее разорвал зайчонок: он хоть и тихонько прыгал по землянке, но крепко бил о пол обрубком хвоста.
…К Марку сходились и сходились люди, и те, что жили, и те, что остались только в списках. Потом приятное покачивание вынесло землянку наверх, и она стала хатой, из окон которой было видно сады, луки и ставок. Сады были обгорелыми. Но на их черных искореженных руках буйно цвел и трепетал розовый цвет. Марко в удивлении остановился перед одной яблонькой, которая завершалась роскошным гербом цвета, припал к ее обугленному стволу и услышал под корой перестук сока. Он так отзывался в дереве, будто оно имело человеческое сердце. А на пруду рыбаки тянули тяжелую тоню, над ними пели те самые кулички-травники, которых он видел под кустом телореза. Дальше появилась церковь, старые образа на ней казались потемневшими куклами пряжи. Сучковатый отец Хрисантий встретил его с какой-то бутылкой в руках и хитро улыбнулся:
«Нет вашего Заднепровского, — уже в новой школе орудует. А я перехожу в самодеятельность. В последний раз в церкви пью, хватит грешить».
Марко пошел в школу. Возле осокорей, где он встретил свою судьбу, над ним загремел пушечный гром. Марко поднял голову и на облаке увидел бородатого веселощекого деда с солдатскими обмотками на ногах. Дед подмигнул ему:
— Испугался? Это не пушки, а я, гром, гремел. Слышишь, война закончилась! Вот и будь здоров и ничего не бойся. Поплыл на облаке прорицать победу…
Марко проснулся с улыбкой на устах, повернулся, крякнул и услышал тихий голос Федька:
— Вы не спите?
— Не сплю.
— А слышали, как во сне смеялись?
— Не слышал.
Паренек рукой нащупал Маркову руку и что-то ткнул в нее:
— Возьмите себе, Марко Трофимович.
— Что это, Федю?
— Зажигалка. Все-таки пусть она будет у вас. В хозяйстве пригодится, — сказал словами Марка.
Мужчина понял, что сейчас делается в детской душе.
— Ну, спасибо, Федя, за подарок. Теперь и я буду с огнем! Давно не имел такого славного подарка.
— В самом деле? — обрадовался паренек.
— В самом деле. А если захочешь поиграть ею, бери у меня, обижаться не буду, — прижал к себе ребенка и вздохнул.
Ночь лучший пособник влюбленных, только тех, что неженаты. Дела женатых ночью куда хуже, даже если ты председатель колхоза.
Антон Безбородько, проведя глазами сани с Мамурой, оперся спиной о колодезный журавль и думает о том, над чем иногда думают по ночам некоторые мужчины. В голове неоднолюба, потесняя все хозяйственные заботы, неровно крутится и плетется один клубок: «К кому и как пойти?»
Кто-то, может, и не очень мудрствует возле такого, сокровенной страстью напутанного клубка, но степенный Безбородько — не легкомысленный баламут. Он знает, что любовные ласки рождаются в тайне и лучше всего, когда в тайне, без завязи, отцветают. Кому в этом мире, практически, нужны огласка или подозрение? Ни тебе, ни твоей любовнице, ни тем более собственной жене, которая на всякий взгляд мужчины имеет кошачьи глаза. Ты на заседание идешь, а она и здесь, как из колышка, цюкнет:
— Долго будешь сидеть?
А разве же он знает, сколько будут говорить и свои активисты, и представители? Да и на фермы, какими они теперь ни есть, надо заглянуть, чтобы хоть сторожа начальство чувствовали. А баба как баба: все равно государственную работу никак не отсортирует от любви и ревности.
«Эх, Мария, Мария, славная ты была девушкой, и молодица ничего себе вышла из тебя, а вот, набравши сорок лет с хвостиком, не набралась, практически, деликатности. Еще и не подумает муж повести на кого-то бровью, а у тебя уже все и для всех написано-разрисовано на лице, как на афише. С годами еще и новый недостаток прорезался у жены: неважно спит по ночам. Не успеешь ступить на порог, а с постели уже шипит ее голосок:
— Чего так поздно притарабанился? Уже скоро первые петухи запоют.
Прицепилась к тем певцам, будто и не знает, сколько председатель имеет хлопот от петухов и до петухов».
Журавль грустно поскрипывает, будто сочувствует мужчине, и он тихонько начинает напевать:
Ой у полі три криниченьки,
Любив казак три дівчиноньки:
Чорнявую та білявую,
Третю руду препоганую.
Нет, прескверной он никогда не любил, а что у него есть чернявая и белокурая, кроме жены-шатенки, как в городе говорят, так это факт, с одной стороны, приятный, а с другой, лучше не спрашивайте… Как там теперь его законный факт? Спит ли, или отдавливает бока, ожидая мужа? Хоть бери и незаметно сон-зелье подсыпай своей паре. И медициной втолковываешь ей, что сон — это витамины здоровья, но разве же такую медицину победит или переговорит? У нее, практически, своя медицина и свои примечания к ней. Эт, никогда мужчина не проживет спокойно: то войны, то разные планы-заготовки, то кампании, то фермы, то женщины. И какую они силу взяли над нашим братом! Взглянет-моргнет глазами на тебя, поведет бровью — и потащит куда-то душу, словно за поводок. Еще ничего, если у кого-то один поводок, а вот когда их аж два в разные стороны дергают, и ты стоишь в нерешительности: куда повернуть? Конечно, лучше пойти к Мавре, но это такая дичь, что до сих пор, практически, не разберешь, как поддобриться к ней: или лаской, или продукцией, или еще чем-то. А в последнее время, вражья личина, и не смотрит в его сторону. С какой бы ласки или тряски?
Из тьмы на Безбородько глянули голубые, с диковатым серым бликом глаза молодой вдовицы, которая больше приносила ему хлопот, чем радости. Но почему-то и тянуло больше к ней, словно сам черт в медах выкупывал ее.
«Грехи, грехи», — чистосердечно вырывается у мужчины. Он решительно вытягивается и с достоинством, как хозяин, выходит на дорогу: чего ему сейчас крыться, когда идет проверять конюшню. Вот после нее надо будет съеживаться под чужими печами, а это, практически, разве убежище? Скорее бы всем огородиться плетнями, перекладинами и разжиться на хаты. И людям было бы лучше, и для высшего глаза, и для него — меньше бы тыкали пальцами на его усадьбу. Не одному мозолила она глаза, а никто не поблагодарит, что он и для людей зубами вырывал лес аж с трех лесничеств. В этом году много настроят хат, ну, а все одинаково жить не могут, потому что до неба высоко, а до коммунизма далеко.
Он осторожно, почти на цыпочках, подходит к конюшне, откуда слышны голоса конюхов, вытягивается у ворот и прислушается, не болтает ли чего-то о нем безумный дед Евмен и его братия. «Никогда старику ничем не угодишь. Уже, так и знай, отвез Марку Бессмертному три фуры побасенок, а четвертую жалоб. И принесло же этого Марка еще до окончания войны, будет кому воду мутить, — это такой, что не усидит и не улежит. Гляди, еще и потурит с председательства, потому что он рыболов».
Последнее слово Безбородько уже со злостью выговорил в мыслях: вспомнил, как Марко насмеялся над ним. Еще когда они ходили в школу и сидели на одной парте, Марко был завзятым рыбаком, а он приладился и руками драть раков, и раколовлей вылавливать, потому что за них от попа-ракоеда во всякую погоду перепадала свежая копейка. Те годы уже и конями не догонишь. Когда же в тридцать восьмом году его, Антона, снова сняли с председательства, а назначили Марка, как-то под рюмкой он спросил на крестинах:
— Почему, Марко, тебе фортунит на председательство, а я никак не могу долго удержаться на нем?
Марко тогда, не мудрствуя долго, и выпалил на людской смех и молву:
— Наверно потому, что в принципе ты раколов, а я рыболов; ты под коряги заглядываешь, а я в плес смотрю.
Ну, да за войну рыболову больше досталось, чем раколову; на плесах войны со шкуры быстро делают решето… Вот уже имеешь на завтра новую заботу: пойти к рыболову, посочувствовать его ранам, чем-то помочь ему, а он, лукавоглазый, гляди, и спихнет тебя с председательства, как раньше спихивал.
Эти опасения совсем растревожили мужчину, потому что в глубочайших своих тайниках иногда с сожалением и нехорошей завистью признавал, что Марко, хоть бы он сгорел, ведет хозяйство лучше его. Но на людях, где мог и как мог, а чаще тайно, кусал и ел своего соперника. Правда, это он прикрывал и разными идеями, и всяческими заботами о колхозе. А как же иначе? Это только не очень большого ума кладовщик Мирон Шавула может напрямик выпалить, как уже выпалил сегодня о приезде Марка, что два кота на одном сале не помирятся. А он под это именно должен подвести базу, идейную или экономическую, потому что теперь без теории никак не обойдешься. Она имеет резонанс. Даже жена иногда опасается ее.
За воротами потихоньку пофыркивали кони, неприятно пахло прелой соломой, забродившим жомом, добавляемым к сечке, а благоухание сена давно уже выветрилось из конюшни. Чем только дотянуть до паши?