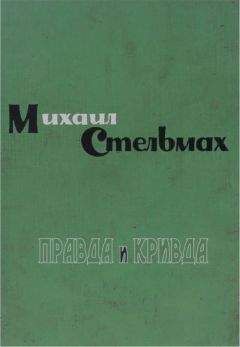— Да что ты, женщина добрая, говоришь! Опомнись! — Безбородько страшится такого вопроса и неловко входит в землянку. — Это ты спросонок?
Мавра поворачивается за ним на одном месте и уже без надежды переспрашивает:
— Не от Степана?
Безбородько зябко поводит плечами:
— Чего спрашивать об этом — он же убит.
— А может, не совсем убит, — сразу вянет женщина и голос ее наполняется слезами и мукой.
— Ну, чего ты, несчастная? Не надо беспокоить себя, — начинает успокаивать вдову, а сам прогоняет глупые мысли: разве полегчало бы ей, если бы вернулся Степан, — он, ревнивец, не помиловал бы ее, месил бы, как тесто в кадке, а она и сейчас так побивается о нем. И кто на свете поймет, что такое женщина и что такое женские слезы и сердце?
Мавра только теперь в темноте находит на перилах кровати юбку, быстро надевает ее через голову, а сама дрожит, как в лихорадке:
— Как ты мою душу разволновал, как оборвал ее с последней нитки.
Он украдкой дотрагивается руками до ее еще сонных плеч, пахнущих разогретым сеном, женственностью и горьковатостью пыльной землянки.
— Чем я тебя разволновал?
— Телеграммой, будь она неладна. Никогда ни от кого на свете не получала их, кроме своего Степана… Только сказал ты это слово, а я увидела его, мужа своего, и ожила, и обмерла: а может, он каким-то чудом уцелел.
— Какое уж там чудо может быть, когда на мине подорвался? Нашли от него, сама знаешь, лишь пару клочков шинели и кусочек сердца. Как только не развеялся этот кусок сердца, когда даже кости дымом развеялись? — бесцеремонно, будто и не при жене, вспоминает смерть мужа, а сам топчется по землянке, присматривается к кровати и к лежанке. Но почему нигде никого не видит он? — А где же твоя тетка? — спрашивает повеселевшим голосом.
— Какая тетка? — забыв свое вранье, сквозь слезы удивляется Мавра.
— Драсте вам! — Безбородько насмешливо кланяется в пояс вдове. — Она еще спрашивает — какая! Твоя же — уличная сплетница!
— А-а-а… Это я со сна сказала, — неохотно отвечает Мавра и засвечивает плошку.
— Будто ты уже спала? — недоверчиво косится Безбородько и на женщину, и на лампу.
— Заснула. От кого же телеграмма пришла? Кто мог вспомнить меня?
— Ге-ге-ге, — неловко смеется Безбородько. — Интересуешься?
— Да чтобы очень, так нет, потому что радости сейчас нет ни в письмах, ни в телеграммах, — осторожно ставит на шесток мигающий свет. — Так от кого?
Безбородько засмеялся:
— Это я, Мавра, выдумал под твоими дверями, когда ты мне теткой такого страху нагнала. Надо же было за какую-то загогулину ухватиться…
— Выдумал!? — Мавра пораженно застыла возле печки, вокруг ее рта затряслись мучительные и горькие складки, но вот их смывает злая решительность, и она чуть ли не с кулаками бросается на гостя. — Вон, иди прочь, ненавистный! Сердце оборвал, еще и радуется. Вон, шляйка уличная!
— Ты что, женщина добрая, не той ли, не ошалела ли, практически, перед новым днем? — Во все тело Безбородько ввинчивается мерзкий холодок, и уже куда-то далекодалеко отлетает непрочная радость встречи.
— Вон, мерзавец, а то людей позову! — вдова руками и слезами гонит Безбородько к дверям.
— Приди в себя, Мавра, приди в себя! Какой овод тебя укусил? Разве я, практически, худшего тебе хочу? Я же люблю тебя, — запыхавшись останавливается на пороге, хочет прижать женщину, но она люто бьет его по рукам и так начинает сквозь плач поносить, что и в самом деле кто-то может услышать крик в землянке. — На какую оттепель развезло тебя сегодня?
Вдова отворяет двери:
— Исчезни с глаз, баламут! Он еще мне добра желает, он еще любит меня, а чтоб тебя болезнь полюбила.
— Чего ты разбрызгалась, сумасшедшая! Тише, практически, не можешь? — цыкнул на вдовицу, негодующе громыхнул дверями, а за ними послышался безутешный плач.
Ну, вот не переделка ли мужчине? Еще минуту тому назад он чуть ли не подпрыгивал, придумав историю с телеграммой, а теперь проклинал ее последними словами: техника испортила ему все удовольствие. Правду говорят теоретики: нет ничего постоянного в жизни — все течет, все меняется, а бабы больше всего.
В таких раздумьях идет покрученными улочками надувшийся Безбородько домой, а мысли поворачиваются и поворачиваются к странной вдовице, которая так бесцеремонно выпроводила его из жилища. Если бы не такой поздний час, можно было бы снова вернуться к ней. Хоть бы утешил ее каким-то словом, бабы это любят и тогда становятся добрее к нашему брату. А может, она его вытурила только для того, чтобы больше тянуло к ней? И такая бабская стратегия может быть.
Неподалеку хрипло загорланил, забил крыльями петух и сразу же, чуть дальше, отозвался второй и тоже тряхнул крыльями, будто отделял ими утро от ночи. Безбородько удивился — неужели это полночь?
«Так за глупую ложку супа и проходил полсуток. Хоть бы Мария не проснулась».
Да разве женщина догадается когда-нибудь сделать так, как захочется мужчине? Не успел он с порога вдохнуть запахи сушенных яблок, как Мария и цюкнула, как долотом, по темечку.
— Чего так рано пришел? Еще где рассвет, а муж уже на пороге.
Безбородько с ходу отрезал жене:
— Слышал уже не раз эти глупые вопросы на проблемы. Что-то более умное выковыряла бы или проинформировала, что скоро первые петухи запоют.
— Бедненький, он и не слышал, как они пели! — со сладкой иронией кусает Мария.
— Разве пели? — удивляется мужчина. — Вот чего не слышал, того не слышал. Да и петухов теперь на селе по пальцам, практически, сосчитать.
— Эге ж, теперь полюбовниц больше, чем петухов, — как бы между прочим сказала Мария и снова взялась за свое: — Так, говоришь, не слышал, как петухи пели?
— Сказал же тебе.
— И еще скажешь, что на конюшне был?
— Таки на конюшне.
— А потом возле чьих дверей щеколду целовал?
— Эт, не забивай ты мне баки ни петухами, ни щеколдами! Загалдела черте что! — естественно рассердился, но и забеспокоился муж: жена таки что-то пронюхала. Но что именно и сколько именно? Если бы много — все одним духом вычитала бы, как стихи. А то так подкалывает, лишь бы что-то вырвать из него. Тоже свои теории имеет. Значит, надо суживать свою практику, чтобы не попасться зря. Вот так, а не иначе, дорогая женушка. — Ты бы, может, догадалась ужин поставить на стол?
— Будто нигде не ужинал? — снова сладко удивилась Мария, а сама чуть ли не шипела в постели.
— Да мог бы поужинать, так к тебе спешил, летел, как на крыльях.
— Боже милый, хоть бы раз мой муж осчастливил меня и не поломал по дороге те крылья, — так ехидничает Мария, что у Антона кончается терпение. Он решает или оборвать, или довести до конца похабную игру. Лицо его выражает презрение, беспокойство и нелегкие раздумья, а в голосе отзывается угроза:
— Ей еще ревность, девичество в голове, а ты дни и ночи не спишь, выворачиваешь мозги, потому что уже весна к самому селу подходит, а кони с ног падают. Еще скажи хоть одно глупое слово, и все горшки и миски полетят и на пол, и в твою горячую пазуху.
— Чтоб тебя черт побрал! — зная его характер, Мария испуганно соскочила с постели, метнулась к свету, а потом так загрохотала ухватами, будто должна была доставать из челюстей печи не горшки, а весенний гром.
«Это уже, практически, другое дело, — чуть ли не улыбнулся Безбородько. — Ну, чье сверху? Знала бы немного больше, не метнулась бы, как ошпаренная, к печи. Знаем вас, как облупленных». Он степенно разделся, небрежно бросил пальто на мешок с сушкой, которая пахла еще холодком: наверно, внесли ее в дом поздно вечером, и прикрикнул на старуху:
— Чего босиком носишься? Из чьего бы только ума такой горячей стала?
Женщина исподлобья взглянула, мигнула на него, вознамерилась отрезать, что только ее муж никогда под собой места не нагреет, но передумала и молча поставила, как прилепила, миску перед самым носом:
— Ешь!
— Может, и ты поможешь?
— Подожду завтрака — недолго осталось ждать, — затопотала к кровати.
— Как хочешь, если до утра не похудеешь. — В душе он праздновал победу, и потому даже спать ложился веселее. Но утром жена таки показала буйный нрав.
Каждый человек имеет какую-то свою слабость или прихоть. Безбородько тоже не был исключением между адамовыми потомками. Весной в прошлом году он был легко ранен в бок. Эта рана возвеличила его в собственных глазах и в глазах партизан. Лесное племя великодушно забыло, что Безбородько пришел в отряд только тогда, когда запахло победой. Рана принесла мужчине и правительственную награду — медаль. Так чего же было и дальше не раздувать свою славу и раной, и наградой? Так вот при всякой возможности Безбородько поддерживал эту славу, будто между прочим вворачивая в разговор.
— Побывали мы, практически, в разных и всяких переделках, попробовали, почем фунт лиха, когда командира убили, а меня ранили.