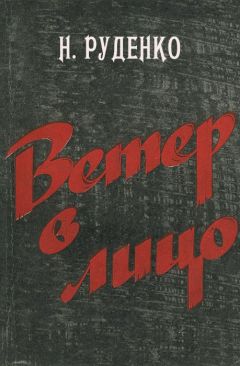— Ишь, как распинается, продажная шкура, — услышал за своей спиной Солод. Он повернулся, чтобы запомнить лицо того, кто это говорил. Это был Козлов, командир взвода третьей роты. Глаза воспаленные, через все лицо — синяя полоса от проволочного хлыста.
— Ваша задача — освободить их от большевистской неволи...
— И подставить шею под твой зад, — снова послышался за спиной Солода хриплый голос Козлова.
— Выдавайте политруков и коммунистов! Это они вас обманывают, заставляют воевать против своих освободителей. Записывайтесь в освободительную русскую армию, которой командует генерал Власов!
В рядах пленных кто-то крикнул:
— Передай ему этот подарок!..
Наполненный жидкой грязью, большой солдатский ботинок полетел на власовского офицера, попал прямо в грудь, заляпал грязью бороду, новый мундир, лицо. Офицера как ветром сдуло с трибуны. И вот в ряды пленных застрочили немецкие автоматы. Один за другим падали передние. Солод тоже упал.
Когда пленных разогнали по вонючим баракам, Солод выполз из-под трупов и, набравшись смелости, пошел к машине Колобродова, что стояла у ворот.
— Цурюк! — Загородил ему дорогу солдат.
— Хайль Гитлер! — Протянул руку Солод.
В это время в сопровождении коменданта подошел Прокоп Кондратьевич.
— Прокоп Кондратьевич! — Бросился к нему Солод.
— Загреба!..
Они обнялись, поцеловались, как подобает старым друзьям.
— Прошу передать в мое распоряжение, — обратился Прокоп Кондратьевич к коменданту. — Мой давний друг. Я его знаю так, как себя. Будьте уверены, он самоотверженно послужит великой Германии.
Солод составил для коменданта список коммунистов, командиров, политработников. Отдельно доложил о Козлове.
Иван ненавидел Козлова лютой ненавистью. Козлов не был кадровым офицером, пришел в полк из добровольцев. Он еще мальчишкой участвовал в гражданской войне. С первых дней службы в полку завоевал себе непререкаемый авторитет. Коммунист с двадцатилетним стажем, он стал совестью полка. И если бы он успел обнаружить военные способности — носить бы ему полковничьи или и генеральские погоны. «Сорвалось!.. Не получится...» Иван этому очень радовался.
Через час в машине бывшего начальника Солод ехал в штаб власовской армии. Собственно, в штабе ему побывать не пришлось. Прокоп Кондратьевич остановил машину у небольшого леска.
— Выйдем, надо поговорить.
Отведя Солода на некоторое расстояние, чтобы водитель ничего не мог услышать, сказал:
— Вот что, Иван... В штаб я тебя не повезу. Там тебе делать нечего. Все наши расчеты полетели к чертовой матери. Гитлер может проливать кровь своих солдат еще два или даже три года. Но победят большевики. Это уже видно сейчас. Я не думаю, чтобы Англия и Америка активно выступили против Гитлера. Но они не выступят за него... Гитлер уже в могиле. Жаль, что он сам этого не понимает...
Солод, истощенный всем пережитым, стоял бледный, мрачный, облепленный с ног до головы сухой грязью. Его гимнастерка и шаровары казались сделанными из коры старого дуба. Глядя на Прокопа Кондратовича бессмысленным взглядом, он механически обходил грязь, потом бил себя по животу, по бедрам, по коленям.
— Я вижу, ты удивлен, Иван... Не удивляйся, — говорил полковник, отходя от Солода, выбивающего из себя целые тучи пыли. — Ничего странного нет. Я думал, что Англия и Америка выступят на стороне Гитлера. Тогда бы мы с тобой смогли размахнуться в полную силу.
— Что же делать? — Нерешительно, уставшим голосом спросил Солод.
— Что делать?.. Германия сейчас напоминает корабль, с которого перед выходом в море сбежали крысы. Крысы обладают инстинктом заранее чувствовать катастрофу. Не будем же глупее их... Реабилитируй себя в армии. Партийный билет при тебе?..
— Нет, закопал...
— Отыскать сможешь?..
— Вряд ли...
— Не скажу, что это разумно... Ну, что же? Ищи сам выход. Надо сохранить хоть воинское звание. Я тоже скоро буду там. Надоела игра в солдатики у многоуважаемого генерала Власова... А теперь прощай. Стрелять буду — не бойся... Ну, ни пуха, ни пера... Как разыскать меня — ты знаешь...
Солод неохотно вошел в молодой березняк, а Прокоп Кондратьевич трижды выстрелил вверх. Сев в машину, он недовольно пробормотал:
— Большевистский выскребок... Еще другом притворяется. В штаб, шофер.
Долго бродил Солод глухими лесными просеками. Березки уже пожелтели, хотя листья, казалось, еще не собиралось опадать на землю. Предосенний дождь окончательно смыл с одежды шершавую грязь, зато и Солода промочил до костей. Иван думал сейчас только об одном — о куске черствого хлеба и о теплом костерке... Перед вечером он вышел на окраину села, находящегося в глубокой лесной балке. Деревянные избы, покрытые замшелой дранкой, стояли в окружении пожелтевших березок, разлогих елей и дубов. Иван залег во влажной траве, осматривал дворы... Немцев, кажется, здесь не было. Поднялся, пошел смелее.
Вот небольшой деревянный сарайчик. Нет, это домашняя баня. Она стояла далеко от избы, в конце огорода. В бане что-то зашелестело. Неужели кто-то моется?.. Зашел в тесные сени, постучал во влажные от пара, тепловатые двери. Из-за двери послышался девичий голос:
— Кто там?..
Отвечать не хотелось. И что скажешь?.. Постучал еще раз. Дверь отклонилась, высунулась девичья голова с мокрыми волосами. Левая рука девушки стыдливо прижимала к груди влажное полотенце. В больших глазах светилось удивление.
— Простите, — сказал Солод. — Голод загнал.
— Откуда вы? — Робко спросила девушка.
— Из лагеря... Сбежал.
Девушка посмотрела на него взглядом, полным грусти и сострадания. Видимо, он действительно сейчас не мог не вызывать к себе жалости. Иван, покорный этому взгляду, тоже оглянул себя. Старые солдатские ботинки, снятые перед сдачей в плен с убитого бойца, расползлись, и тоже, как и их новый хозяин, «просили есть». Вечера и ночи были холодные, а на нем только мокрая гимнастерка, — шинель осталась в лагере. Но Иван не мог увидеть своего лица, а именно оно, изможденное, костлявое, бородатое, и вызвало наибольшее сочувствие.
— Чего же вы пришли в село? — Спросила девушка. — У нас немцы.
— Где же они? — С тревогой спросил Иван, готовый уже выйти из тесных сеней.
— Вот их подводы под нашей избою. Стойте здесь, пока стемнеет. И не бойтесь... У меня тоже отец в армии.
Девушка закрыла дверь, а Солод прислонился плечом к деревянной стенке сеней и так стоял, закрыв глаза. Нервное напряжение последних дней и невероятная усталость взяли свое — он и не заметил, как задремал... Но вот Иван услышал тихий женский голос:
— Бедный... Он спит. Пойдемте тихонько...
Девушка взяла его за руку и, осторожно ступая в темноте, повела за собой. Солод не понимал, куда она его ведет, но у него не было сил даже волноваться за свою судьбу.
Они остановились у сарая. Девушка осторожно отбросила железную ручку, завела его в сарай. Приятно запахло лесным сеном. Не отпуская руки, сказала:
— Лезьте за мной.
Долго она тянула его узкой норой, сделанной в сеновале. Наконец они оказались в теплом, ароматном гнездышке, где можно было даже сесть.
— Тут и заночуете, — сказала девушка. — Если не можете отправиться завтра утром, пойдете послезавтра. Еду я вам буду носить. Сейчас не спите. Все равно разбужу через полчаса...
И она ловко, как мышка, шмыгнула в душистую, шелестящую нору, ведущую к выходу. Солод подчинялся каждому ее слову, как тяжелобольной требованиям медсестры. Наверное, он не первый и не последний ночует в этом гнездышке...
Вскоре он услышал шорох сена. Теплая, ласковая рука девушки коснулась его колючей бороды, скользнула по лицу, по клочковатым волосам. Ему стало уютно и тепло от этой непреднамеренной девичьей ласки.
— Ешьте... А я пока подремлю. Прошлой ночью тоже... не спала.
Она поставила ему на колени кувшин с кислым молоком, положила в руки полбуханки, а сама, по-детски доверчиво согнувшись в тесном гнездышке, сразу же уснула. Ласково щекотало спину ее теплое дыхание. Солод уже давно опустошил кувшин, съел хлеб, но не решался ее будить. Что-то нежное, хорошее затеплилось в груди. Видно, девичья забота тронула его холодное сердце. Он даже рассердился на себя — откуда эта сентиментальность?.. Нет, на том дорожке, которуй он выбрал для себя, — она лишняя. Ее надо каленым железом выпекать. И вдруг мелькнула другая мысль — а почему бы не воспользоваться этой безрассудной доверчивостью?..
И вдруг ему стало стыдно. Вспомнилось другое девичье лицо — нежное, наполненное сочной вишневой красотой.
Сестра... Где она сейчас?
После того как отца выслали, мать переехала с нею в другое село и вскоре умерла. Девочка вырастала у дальних родственников, а Иван посылал деньги на содержание и время от времени ее навещал.
Как она прижималась к нему, как щебетала, эта озорная, беззаботная девочка!
Может, и она так, как эта доверчивая русская девушка, прячет у себя какого-нибудь раненого солдата или партизана? Сестра еще до войны поступила в комсомол, с увлечением читала «Как закалялась сталь» и очень ругала Тоню... Иван с нею не спорил — пусть растет такой, как все. Может, легче ей будет в жизни...