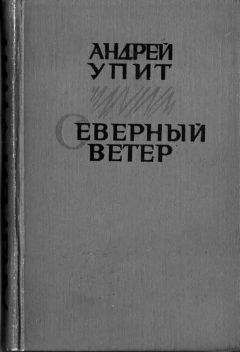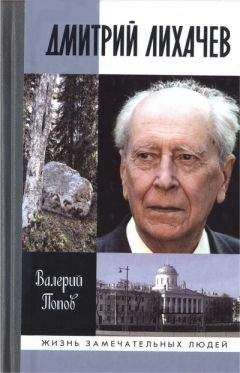Батрачки, болтая и пересмеиваясь, убирали двор граблями и метлами — за неделю скотина загадила все углы. Из дома доносился запах горячих щей и лепешек. Хозяйка хлопотала в кухне, Лаура в комнате все пыталась петь, но так фальшиво, что Анна не выдержала, нагнулась к самому уху Либы, чтобы Лиена не услыхала, и обе прыснули, прикрыв рты уголками платков. Даже Осиене, спеша из амбара с крупой, не прикрикнула на Тале, которая вместе с обоими малышами, раззадорившись, каталась по свежевыметенной муравке. На горке Маленький Андр громко распевал за дубом песни Лиго, стараясь перекричать карлсонского пастуха Заренов, пение которого доносилось из кустарника, что пониже рощи.
Хозяин Бривиней легким шагом, но ничуть не спеша, вышел со двора взглянуть на только что заборонованное овсяное поле и проверить, не взошла ли рожь в низине. На горе за Спилвским лугом, уже у самого загона, Осис за бороной понукал своего чалого: он тоже хотел кончить до вечера. Все было в наилучшем порядке, Бривини и в этом году отсеялись первыми в Межгальской волости. Первыми!.. В этом году?.. А разве Бривини в иные годы… разве они вообще когда-нибудь и в чем-нибудь были последними или хотя бы вторыми?
В темных глазах Ванага заиграла улыбка. Ладонь привычным движением поднялась и разгладила бороду — на этот раз даже два раза кряду.
Однако мелкие домашние работы и уборка все же затянулись до сумерек, словно в канун большого праздника. Когда оба Андра и старший батрак, выкупавшись у плотины Межавилков, пришли домой, Браман уже сопел за столом. Щей на столе еще не было, но теплую гречневую лепешку можно есть и всухомятку. Хозяин вынес из своей комнаты зажженную лампу, осторожно держа обеими руками, и повесил на гвоздь над головой Мартыня. Эта лампа была настоящее чудо — первая такая на всю волость. Подарил ее Ванагу дальний родственник Иоргис из Леяссмелтенов, по фамилии тоже Ванаг, который всегда привозил из Риги какую-нибудь диковинку. У нее было восьмилинейное стекло с зажимом внизу, горела она ярко и не коптила. На стеклянном резервуаре металлический обруч, а сзади блестящий жестяной круг, — глазам глядеть больно. Всю комнату осветило, в открытую дверь стало даже видно больного старика. Лампа, верно, брала много керосина, и Лизбете опасалась, что осенью, в длинные вечера, не хватит полштофа на месяц.
Мартынь потеснился на скамейке, чтобы для хозяйки и Лауры осталось побольше места. Большой Андр с работницами уселись в ряд с Браманом, только когда Лиена принесла миски с мясом и щами, а хозяин занял свое место в конце стола. Для Маленького Андра ужин, как всегда, поставили на лежанку, сам он только что вбежал запыхавшись, едва сдерживая громкий смех. В таком же настроении следом за ним в комнату ворвался его друг и залез под стол. Где пахнет мясом, там и кости найдутся, пес это знал по опыту.
Увидев на столе щи, Браман бросил половинку лепешки обратно в лубяное лукошко и зажал в кулак ложку. Каждый помечал свою ложку особой меткой на черенке — крестиком, зарубкой или черточкой. Браман в метке не нуждался, его ложка особенная — почти круглая и очень глубокая; он никогда не забывал захватить ее, когда в Юрьев день переходил к другому хозяину. Этим черпаком он загребал как можно больше гущи и, не жалея, сыпал соль. Мясо на этот раз подали в отдельной миске, и он расшвыривал ложкой кусочки поменьше, пока не выбрал самый большой. На левой руке вместо большого пальца у него был обрубок, на указательном тоже не хватало сустава, но кусок мяса он ухитрялся сжимать с такой силой, что жир стекал по руке под обшлаг рубашки. Трехнедельная щетинистая борода так почернела от грязи, что не было заметно седины. Только белки глаз сверкнули, когда он, чихнув, взглянул через стол на старшего батрака.
Тщетно морщился Мартынь Упит, подавая пример воздержанности и приличия. Ему это давалось не так-то легко: частенько, положив в сердцах ложку, он вставал из-за стола полуголодным, а после отрезал в кладовой ломоть хлеба. От долголетней службы ложка Брамана потрескалась, и от миски до края стола тянулась длинная дорожка щей. Женщины всякий раз тщательно проводили донышком ложек о край миски, чтобы ни одна капля не упала. Андр, из предосторожности, ел повернувшись к столу боком: даже за один неосторожный взгляд Браман однажды так отчитал его, что еще раз испытать не хотелось.
Сегодня хозяин ел усердно, будто сам целый день на ноле проработал и помог кончить посев. Почти так он и сказал:
— Хорошо, что нам удалось отсеяться в сухую погоду.
Старший батрак только и ждал, чтобы заговорил хозяин, — молчание ему давалось с трудом.
— Если вмесишь семена в грязь, толку не будет, — тотчас отозвался он. — Когда я жил в Яункалачах, у нас однажды незапаханную картошку затопило в бороздах. Ливень прошел здоровенный, на другой день еще вода стояла. Картошка выросла крупная, — а что радости, когда вся в белых пятнах. Весной открыли ямы, а там все раскисло; так больше половины и пропало.
— Ну, опять замолол! — проворчал Браман.
Мартынь только сердито повел на него глазами; с этаким и спорить не стоило. А когда в Купчах овес в дождь забороновали — вырос один чертополох, работницы убирали в рукавицах, иначе нельзя снопы вязать. Мартынь знал столько разных случаев из собственной жизни и из чужих рассказов, что стоило только начать с одного, как они тянулись нескончаемой вереницей. И чем больше историй, тем легче убедить слушателей, что он, Мартынь, говорит правду, а не этот обжора напротив.
Но Браману сейчас не до его рассказов. С большим куском он изрядно влопался: костей в нем оказалось больше, чем мяса. Сердито крякнув, бросил кость под стол, где она сразу захрустела в зубах Лача. Работницы переглянулись. Большой Андр утирал рот рукавом, а пастушонок на лежанке поперхнулся и закашлялся. Браман окинул всех пристальным взглядом, но ничего подозрительного не заметил. Вытер нож о порты, сложил его и начал шарить в карманах. Пришло время обычной отрыжки, и на столе появился кисет с порошком. Проглотил и повернулся к двери.
— В тот год, когда я в Рийниеках батрачил, после сева задали целый пир. Поросенок жареный, лепешки из московской муки, пиво…
Ванаг как будто не слыхал Брамана, да и никто всерьез его не принимал. Однако хозяин поднялся не спеша и в той медлительности, с которой он пошел к дверям, было что-то такое, отчего все разом посмотрели ему вслед. Хозяйка вышла вместе с ним, а батраки остались сидеть в торжественном ожидании, совсем как на молитве в воскресное утро. Только старший батрак нервно достал кисет с табаком, но не стал закуривать, а положил на стол.
Хозяин вернулся с полштофом спирта, хозяйка принесла три стакана, чайную ложку и сахарницу. Чаю к ужину не подали, и Бривинь налил в стаканы холодной воды из кружки Брамана, бросил в каждый по пяти кусочков сахара и, поставив все три в ряд, стал поочередно размешивать — спирт можно подливать, лишь когда весь сахар разойдется.
Это занятие требовало большого внимания. Ложечка, звеня, постукивала о стекло; сверкая в ярком свете лампы, поднимались вверх мелкие пузырьки. Очень уж все это было соблазнительно. Старший батрак, отвернувшись, ерзал на скамейке. По виду могли подумать, что ему невтерпеж, что он не может дождаться, — поневоле нужно сказать что-то. Браман только что помянул Рийниека — без этого здесь редко удавалось поесть. И Мартынь, приложившись затылком к стене, презрительно фыркнул:
— Ты все со своим Рийниеком… Разве он пиво варит — это пойло, а не пиво! Правда, бочонок у него есть подходящий и по берегу в кустах полно хмеля. Но ежели сноровки нет и солод поджарить как следует не умеет… Спросил бы у нашего Осиса, он бы научил.
На Брамана звон ложечки о стаканы производил совсем другое впечатление. Его серые глаза не отрываясь следили за плясавшей в руке хозяина ложечкой и щурились, становясь все злее.
— Осис! Вот тоже нашел мастера! — пролаял в ответ Браман. — Сам-то он что сварил на пасху? Что воду лакаешь, что это пиво — разницы никакой!
Действительно, на пасху Осис сильно разбавил пиво, и ни пены, ни настоящей крепости не было. Не зная, что возразить, Мартынь вскипел:
— Ну, тебе-то пиво нужно, как латгальцам, — с багульником да с табаком, чтобы глаза на лоб лезли, чтобы с двух штофов посреди двора свалиться.
Сказав это, он вдруг вспомнил случай из своего неисчерпаемого запаса. О тех же Рийниеках, — от них никуда не уйдешь. Ну вот хотя бы о старике, который давно помер, но не все ли равно… Тогда тоже только что отсеялись, как и сегодня. Старик слыл гулякой, почище Волосача. Но зато уж хозяин был хоть куда — три батрака при клочке земли, лошади — гора горой, каждый год в одно время с даугавцами кончал сеять. Кончал последнюю полосу, когда рядом, в Гаранчах, еще только зябь поднимали. На радостях хозяин после обеда пошел в корчму за полштофом, — тогда еще Рауды и в помине не был, а был Валодзе. К полднику домой вернулся; ну, конечно, у Валодзе успел перекусить. Ячмень у него внизу, ближе к реке. Сел он под окном и глядит, как батраки боронят. Скучно стало, — хлебну, думает, глоток, никто не заметит. Хлебнул раз, другой, третий, пока бутылка не опустела. Надо, значит, идти за новой. Чуть побольше версты будет, дело плевое. А с той, другой бутылкой, только до поворота к усадьбе добрался — да тут и свалился. Ячмень забороновали, поужинали, батраки сидят и ждут, когда посев вспрыскивать будут, но ни водки нет, ни хозяина. Смеркается уже, хозяйка рвет и мечет: ну известно, этот гуляка повстречался с какими-нибудь шалопаями и до свету домой не явится! У батраков тоже все кипит — сиди тут как дурак и жди, пока он, навалявшись за день на боку, гуляет в корчме! Пойдем за ним да вышибем его оттуда, как пробку. Только свернули с большака, а в том самом месте, где нынче лавку строят, кто-то в канаве барахтается, под самым кленом…