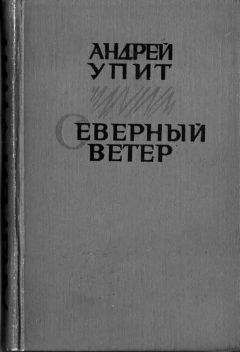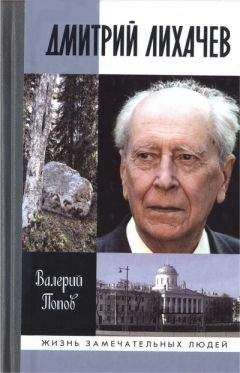— Под ясенем! — крикнул Браман, словно батрак ему на мозоль наступил.
Мартынь так и замер на полуслове. Ну слыханное ли дело прерывать человека на самом интересном месте! Нет, надо скорее рассказывать дальше, чтобы совсем не испортить впечатления.
— Кто-то барахтается под самым кленом…
— Тебе говорят, под ясенем! — И Браман ударил по столу левой беспалой рукой. Видать, что в этом важном споре он не уступит, хотя бы дело дошло до драки. — Ты что, ослеп, где ты у Рийниека клен видал? Восемь ясеней стоят в ряд у дороги.
Мартынь Упит обомлел. А дьявол его знает, может, и впрямь ясени, может, он их спутал с кленами, что вдоль прогона растут…
— Под кленом или там под ясенем, не все ли равно, что у него там… Лежит бревном, впору волоком домой тащить. Шутка ли, три полштофа в такую жару!..
Опять вмешался Браман.
— Два полштофа, а не три, один ты прибавил!
У Мартыня от обиды даже в глазах потемнело. Больше уж уступать нельзя.
— А я говорю — три! Хоть отца моего спроси, он тогда рядом жил, в Лиелспурах!
От возбуждения он совсем забыл, что спросить отца его невозможно: вот уже двенадцать лет как он лежит в земле на иецанском погосте. А Браман свирепел все больше:
— Твой отец такой же врун, как и ты! И про картошку в Яункалачах, и про овес в Купчах ты тоже сам выдумал. Чертополох там вырос потому, что у Купчи никогда лошадей не было, а с такими драными кошками, как у него, не попашешь. А ежели ямы с картошкой неумело прикрыть да еще сухая зима выдастся, то весной, у кого хочешь, все раскиснет.
Щетинистое лицо старшего батрака побагровело.
Усомниться в его правдивости — да большей обиды и придумать нельзя!
— Что ты, такой-сякой, понимаешь в крестьянской работе! Всю жизнь только в канавах ковырялся. Как пошел в каменщики, когда на чугунке мост строили, небось сразу пальцы отшиб. Шут гороховый! Разве ты умеешь с лошадьми обращаться? С чего у Лысухи глаз слезится? Кнут такой, что до ушей достает. Живодер ты, а не пахарь! Хоть отец мой и болтливый был, зато честный. А кто твоего не знал? Кто старому Тупеньвилку за три рубля ригу подпалил?
Мартынь Упит отличался крайним добродушием, редко кто видал его рассерженным не на шутку. Но подобного унижения перед всей дворней он стерпеть не мог. Рассердившись, не знал меры, а сдержать язык ему и без того было трудно.
Помешивая в стаканах, Ванаг все время ухмылялся в бороду: хозяину на руку, когда батраки не ладят, — тогда будут следить друг за другом и не надо подгонять их в работе. Но сейчас перебранка зашла слишком далеко — при чем тут три рубля и рига Тупеньвилка?! Он строго кашлянул, пододвинул каждому по стакану, а свой приподнял и чокнулся.
— Ну, выпьем за хороший овес!
— И за хорошую картошку! — весело отозвался старший батрак. О ссоре он уже забыл, был отходчив.
Но Браман так зажал стакан в горсти, словно хотел сплющить его. Метнул через стол гневный взгляд, одним глотком отпил до половины и сердито крякнул.
Разинув рот и не мигая, Большой Андр смотрел на говоривших, губы сами двигались вслед за словами Мартыня. Он мог просидеть вот так всю ночь, слушая его длинные рассказы. Вдруг он вспомнил, что Лаура сидит напротив, поскорее вытер мокрые губы и покраснел.
Но что для бривиньской Лауры какой-то мальчишка, сын испольщика! Она даже не взглянула на него. Опершись на край стола сложенными под плоской грудью руками, она с явным равнодушием и даже презрением слушала ссору батраков. Даже вряд ли слушала, ее взгляд ревниво следил за тремя работницами, что-то оценивая и сравнивая.
У бривиньской Лауры были поводы для сравнений и оценок. Ее самое красавицей никто не считал, и она это знала хорошо. Ростом была лишь на полголовы ниже отца, но в остальном очень на него походила: сильные, чуть приподнятые плечи, короткая шея, слишком высокий для женщины лоб, широковатое скуластое смугло-желтое лицо с невыразительными чертами, отчего одним она казалась надменной, а другим суровой. Она имела право на эти качества; дочери господина Бривиня пристало быть гордой, а серьезность, которую можно принять за суровость, в тридцать лет была так же естественна, как сероватый налет на зелени листьев в конце лета. Темные жесткие волосы плохо поддавались гребенке. Как ни приглаживай, на лбу или за ушами выбьется какая-нибудь упрямая прядка. Бархатистыми глазами и черными бровями она пошла в мать, а та — родом из палейцев, среди которых много таких.
У Либы Лейкарт и Анны Смалкайс не на что было и смотреть. Правда, лица они кое-как уберегли от солнца, зато носы были коричневые и блестели, словно приставленные не на своем месте. У Либы нос широкий, с необычайно острым кончиком, слегка нависшим над горьким вдовьим ртом. На длинном лице Анны заметнее всего были круглые, точно удивленные, глаза и два торчащих кривых передних зуба, из-за которых она как-то приятно шепелявила.
Но при взгляде на Лиену в глазах Лауры блеснуло что-то острое, похожее на желтый коготь мышиного ястреба. Что она за принцесса такая. Разгуливает загорелая — чернее Мартыня Упита. И сейчас платочек спал с головы конечно уж для того, чтобы были видны две толстые светлые косы, тяжелым жгутом падавшие на спину, и ушко, которое так и хотелось ущипнуть… Вот она облокотилась на стол и подперла ладонью округлый соблазнительный подбородок — конечно, только для того, чтобы широкий рукав кофты, спадая, почти до локтя обнажил белую, словно точеную, руку. И как умеет она держать голову — чуть-чуть приподнятой, так что от света лампы искрятся ее темно-синие глаза! Что ни говори, а все у нее с умыслом, с расчетом — и легкая грусть в глазах, и две ямки у влажного рта. Это все, чтобы дразнить других девушек и заставлять мужчин смотреть на нее так, как сейчас посмотрел отец. Да разве только смотрят? Нет, то погладят по головке, то потреплют по плечу, а может быть, даже и по этой бесстыдно выставленной до локтя руке. Разве отец когда-нибудь прикрикнул на нее, как полагается хозяину и владельцу усадьбы? И чего только они все балуют ее? Даже Маленький Андр — и этот паршивец вырезал ей черенок для граблей, натаскал из леса молодых березок и поставил в клети у ее кровати…
Лаура заерзала, точно скамья под ней стала жесткой, смуглое лицо ее еще больше ушло в тень. Но она сдержалась, и глаза ее заблестели, по-прежнему бархатистые, равнодушные и гордые. «Будь ты похожа на самого ангела, все равно была и останешься дочерью Пакли-Берзиня. Сегодня вечером ты вымыла в речке ноги, и сейчас они чистые, а завтра тебе придется все равно шлепать по навозу в хлеву у Бривиней. На тебе всегда одна и та же кофточка с полинявшими желтыми цветочками и заплатой на локте. И не помогут тебе ни твоя красота, ни твои двадцать лет — Карла Зарена ты все равно не получишь. Минет двадцать пять лет, минет тридцать, тогда и рада будешь, если тот же пустобрех Ян Браман возьмет тебя в жены».
А Мартынь Упит в это время подсчитывал сроки посева и спорил с Браманом, который все старался доказать, что последний лен нужно сеять на неделю позже, чтобы не весь созрел разом и можно было бы убирать его постепенно. Лизбете ушла спать, поднялась и Лаура. Но вдруг в глазах ее опять сверкнули желтые огоньки.
— Что ты сидишь, как сонная! — набросилась она на Лиену. — А стол так и простоит всю ночь неубранным?
Лиена вскочила, сквозь загар было чуть заметно, как она покраснела. Либа одобрительно кивнула головой: еще бы, ее неделя убирать, а она сидит, словно перед нею стакан грога поставили. Покраснев, поднялся и Большой Андр, будто этот окрик в какой-то мере относился к нему. Маленький Андр успел внести мешок с соломой и уже спал возле лежанки, укрывшись от мух попоной. Лаура вышла нахмуренная, на лбу поперечная морщинка, как у отца. Обычно она не пререкалась с батрачками, даже разговаривала с ними редко, но сегодня вечером этот окрик вырвался у нее невольно, и ей было немного стыдно.
Лиена вытерла стол, осторожно обводя тряпкой вокруг локтя Брамана. Когда наружная дверь захлопнулась и Лиена через двор ушла к себе в клеть, старший батрак прервал свой рассказ о небывалом юрьевском ячмене, что вырос когда-то у него в Купчах, и кивнул головой в сторону ушедшей.
— Кто бы мог подумать, что у Пакли-Берзиня вырастет такая дочь?
Размешивая вторые стаканы грога, Ванаг подтвердил:
— Да, девушка хоть куда, ни подгонять, ни присматривать за ней не надо. Да вот сейчас — чуть только мокрой тряпкой провела, а стол будто вымытый. С Юрьева дня, как стала жить у нас, по субботам двор такой чистый — в любом месте на травке валяйся.
— Как цветок желтоглава, когда весенние воды спадут, — восхищался Мартынь. — А ведь дочь Пакли-Берзиня!
Сокровищница его воспоминаний вновь отворилась, он должен был рассказать, почему Берзиня прозвали Паклей, хотя остальные знали это так же хорошо.