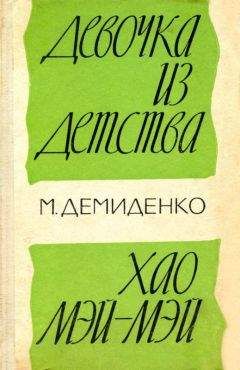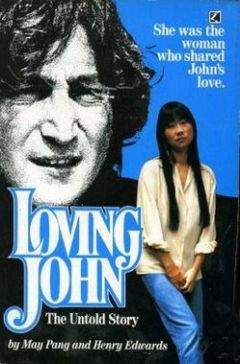— Дядю, — сказал Ара. — Я его дядей звал.
— У нас таких родственников не было, — сказала бабушка. — Свой род я помню… Так… Прапрадед… Нет, даже прапрапрадед.
— Мама, — сказала мать Ары. — Когда я пойду на работу…
— Не твое дело, где мы взяли, — огрызнулся на бабушку Ара. — Сидишь и сиди. Если бы не я, ты бы давно умерла с голоду. Не твое дело, где я зарабатываю. Зарабатываю— и все!
— Ради бога, береги себя, — сказала мать Ары.
— Да мы… — вставил я. — Там это… Ну, дрова. Мы дрова продали.
— Не могли домой принести на растопку, — сказала бабушка. — Топить нечем. Керосина нет. Чай вскипятить не на чем. Принесите еще хоть вязаночку.
— На Машук ходить опасно, — сказал Ара. — Мы вчера видели, как там расстреливали кого-то. Человек десять, не меньше.
— Ой! — вырвалось у матери. Она легла. — Что вас носит нелегкая куда не следует? Когда поумнеете?
— Следует — не следует! — заорал Ара. — А где дров взять? Следует… Давай ложись. Давай сало делить. Половину Вадьке, половину нам. По-честному.
— Снесите Коротких, — сказала мать и закрыла глаза.
— Мам, — сказал Ара, — я и так для них все делал. Что я, рыжий, что ли? У нас у самих ничего нет.
— Как не стыдно! — сказала мать. — Мы остаемся… Неизвестно, куда их увезут, неизвестно, сколько будут везти. У них ничего нет, все отняли, а что осталось — они прожили. Неужели твое сердце настолько жестокое! Ты учился с Марой в одном классе. У вас была команда..
— Тимуровская.
— Вы пионеры.
— Сейчас нет пионеров.
— Есть. Они проверяются, кто настоящий пионер, а кто вроде вашего Ташкента-прилипалы.
— Коротких дома нет, — сказал упрямо Ара, — я видел, на двери замок.
— Они ушли к родственникам. На какую улицу?
— Господи, за углом, — отозвалась бабушка. Она сидела на низкой скамейке и сушила фасоль. У Ары дела были не так уж плохи — фасоль водилась, а вот у меня луковицы не было за душой.
— Отрежем по кусочку, — заныл Ара.
— Как хотите, — сдалась мать. — Нет у вас совести.
— Баб, где хлеб-то, был хлеб, — оживился Ара. — Дай по кусочку, я видел хлеб. По ломтику отрежу — остальное снесем.
— Возьмите зонтик, — сказала мать. — Софья Ильинична просила. Если дождик в дороге… Хоть зонтиком прикроются.
— Мам, — сказал Ара. — Не пугайся, но по правде… Не надо им ехать. Надо спрятаться. Слухи разные… Говорят, их сажают в машины, крытые, и газ пускают. И отравляют. Слух такой… Я видел такую машину, похожа на санитарную.
— Кому их жизнь нужна, — вздохнула мать.
Бабушка дала нам по куску хлеба. Мы откромсали пластик сала, сделали два бутерброда.
Вкуса я не почувствовал.
— Зачем немцам убивать детей и стариков? — продолжала мать Ары. — Ради чего? Конечно, завезут куда-нибудь в дыру. На Украину везут. Климат там хороший, я ездила.
— Говорят, Женьку убили.
— Слышала. Врут, наверное.
Мы ничего не ответили. Мимо окон прошла Ирка Коваленко. С офицером. С тем самым, который не выдал меня в садике жандармам. Офицер что-то громко рассказывал. Ирка заливалась, точно ее щекотали.
— Тьфу! — сказала бабушка и разразилась тирадой на армянском языке.
— Мама, — сказала мать Ары, — тут же дети…
И она тоже заговорила по-армянски.
— О чем они? — поинтересовался я у Ары.
— Про Ирку, — ответил он. — Завернем сало в тряпку. Где зонтик? Мам, давай снесу еще одеяло. Старое одеяло.
— У меня есть ватник, — сказал я. — Сейчас тепло, а в дороге пригодится. Тоже отдам.
— Вадик, — сказала по-русски бабушка. — Приходи ужинать. Я фасоль приготовлю по-армянски. Если бы баранина была…
— Был бы шашлык, — сказал Ара.
Бабушка снова заговорила по-армянски. Ара остановился на пороге, прислушался и включился в разговор. Тихо говорить он не умел. Я стоял и ничего не понимал. О чем спорят? Бабушка и Ара на пару. Наседали на мать. Она вначале возражала, потом умолкла, точно заснула.
Когда мы вышли, я спросил:
— О чем спорили? Разорались. По-русски, что ли, не можете? Знаешь, как неприятно, когда ничего не понимаешь?
— Бабка за меня, — ответил Ара. — Чтобы Коротких не уезжали. Бабушка вспомнила, как турки резали нас, армян. И детей. Всех подряд резали. Грабили, жгли, как немцы. Бабушка видела… Ее спасли русские. Коротких надо спрятать у родственников, наших родственников. Никто не разберется, звезду снимешь, не догадаешься— черные да черные, нос тоже похож, кому какое дело. Зря тетя Соня регистрировалась. Ей говорили. Старик ее уговорил, этот ребе, чего-то напел, лапы свои вверх поднимал, глаза закатывал. Дурак, вообще. И она тоже… Училка… Помнишь, всегда: «Нужно быть честным. Если пристают хулиганы, не связывайся». Договорилась. И Марку с панталыку сбила. Я ее не пускал. Разве объяснишь? «Надо, так надо… Мы со своим народом…» Хреновину придумала. Я бы этого старика из рогатки расстрелял. Чего молчишь? О чем думаешь?
— Зря по кусочку отрезали, — сказал я.
— Что? Грамм по сто. Хоть попробовали, что за вещь достали.
— Зря пробовали, — повторил я. — Вкус вспомнил…
Флигель спрятался в глубине двора, очень похожий на домик Верзилиных[2]. Мы подошли к низкой двери, постучались. Вышла тетя Лариса. Ее весь город знал. Длинная и носатая, на аккордеоне играла в кинотеатре «Машук» перед началом сеансов. Хорошо играла. «Синенький скромный платочек», «И в какой стороне я не буду» из кинокартины «Свинарка и пастух». Песни из «Свинарки и пастуха» надоели. Всегда так — понравится песня, мурлычешь ее, слова разучишь, ходишь, поешь. Потом песня надоела, а кругом ходят и поют.
— Вам кого? — строго спросила тетя Лариса.
— Коротких, — сказали мы.
— Соня! — крикнула в дверь тетя Лариса. — Вызывают.
Из открытого окна высунулась голова тети Сони.
— Ах, вы! К Марочке?
— Да.
— Она занята.
— А… Можно увидеть ее?
— Некогда. И вообще не до вас.
— Но нам ее нужно увидеть! — взорвался Ара.
— Сейчас… Не кричи.
Тетя Соня спряталась, опять появилась, но уже в другом окне.
— Я ее на три минуты отпускаю.
Вышла Марка. В черном платьице, в теплых чулках. Босиком-то было жарко. А она в платье, в чулках, башмаках.
— На Северный полюс собралась, — рассмеялся Ара. — Нарядилась… Отоспалась твоя тетя Соня, опять начала воспитывать. Не слушай ее. Она ничего не понимает… Вы сегодня уезжаете?
— Решили завтра рано утром пойти. Всем народом.
— Каким народом?
— Старики решили.
— Слушай, Марка, не ходи, — начали мы агитацию. — Дура ты набитая. Не поезжай. Ты у нас будешь жить, будешь за армянку.
— У моей тетки, — вставил Ара. — В слободке. Мать пусть едет. Пришлет письмо, тогда поедешь. Мама сказала, и бабушка.
Из окна выпрыгнул Мишка, сын тети Ларисы. Мишка подошел боком. Мы с Арой подвинулись друг к другу — Мишка был старше и сильнее. И дрался хорошо. Он уже на танцы ходил…
— Чего принесли? — осведомился Мишка.
— Не тебе.
— Не про себя спрашиваю. Давай, на всех пойдет.
— Отпусти! — сказал Ара.
Я молча зашел сзади Мишки, поднял камень, зажал в кулаке.
Во двор вошла тетя Зина, врач из детской поликлиники. Подошла к окну, о чем-то заговорила. По-еврейски. Некоторые слова были по-русски.
— …спичек десять коробков… Аспирина нет… Это нервное… кто знает… ах, что будет, то будет… конечно, конечно… Нет, у них не дифтерит… ничего не купить… да, да, да… говорят, отравился опиумом, какой ужас… да, да, говорят, отвезли в немецкий госпиталь. Спасут… Не похоже, чтобы собирались… зачем тогда спасать профессора Дорфмана? Никакой логики… Второго и пятого вывозили из Ессентуков и Железноводска… Ни одного письма. Рано, не доехали… Кто знает… Хорошо, спасибо! Я в долгу не останусь… Бегу, бегу, с ног сбилась… Гарантировали… да, они любят, чтобы был порядок… Конечно, цивилизованные… Конечно, конечно… Да, да… У меня уже нервы не выдерживали… их убили. Во вторник. Прямо в лицо. Мальчику вставили в рот пистолет, повернули — зубы и полетели. Хуже не будет… бегу, бегу…
Но она не двигалась с места еще полчаса. Нам было не до нее.
— Устроился учеником к сапожнику, — хвастался Мишка. — Мать поедет. Ей и нельзя не ехать, а я не поеду. У меня отец — русский.
— А зачем она поедет?
— Она в списках. Если не явится в казармы, подведет людей из комитета. Каждую фамилию отмечают.
— Пусть кто-нибудь крикнет ее фамилию…
— Вдруг паспорт нужно предъявлять?
— Пусть останется. Начихать на комитет.
— Она не останется. Прятаться, вздрагивать от каждого шороха… А вы знаете, какая у меня мама — она умеет жить только честно.
— Брось ты! — возмутился Ара. — О какой чести речь? Приходят какие-то фрицы, толкают права, и ты молча сдерживайся? И это честность? Завтра, может быть, еще какой-нибудь фюрер свалится, будет приказывать ходить вверх ногами — и это тоже честность?