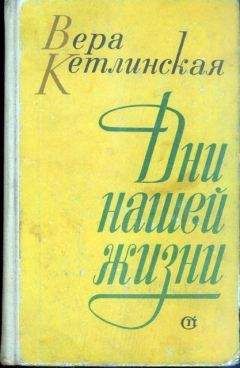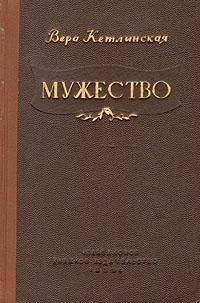В одном из репинских залов Алексей остановил ее перед огромным полотном «Государственный совет». Аня не любила эту картину, относя ее к парадной, официальной живописи.
— А вы приглядитесь, какие характеристики! — возразил Алексей. — Бюрократы, самодовольные тупицы, держиморды, надутые ничтожества — ну, все тут есть! Если бы я умел, я бы написал картину «Производственное совещание турбинщиков». Видели, в парткоме висит картина «Митинг на заводе»? Меня злость берет, когда я смотрю. Кепок больше, чем людей. А о каждом таком человеке можно стихи писать!
— А вы пишете стихи, Алексей Алексеич?
Она отвернулась, пряча улыбку, ей вспомнилось: «Ах, я люблю так сладко турбинные лопатки...» Алексей покраснел и буркнул:
— Нет. И не в стихах дело. Кепка и спина — это же оскорбительно! Это лень и неумение видеть, что коллектив состоит из личностей и каждая личность во много раз богаче, интереснее каких-нибудь там сенаторов. Воробьев, Коля Пакулин, Саша Воловик и многие другие — вот что такое коллектив. Почему искусство не показывает этих людей? Не пятно на картине, не производственную единицу, а личность во всем богатстве, во всей ее сложности?.. А если есть ничтожества, так и это нужно показать, да так показать, чтобы им самим противно стало!
Скитания по залам мешали ему, он взял Аню за руку и остановил ее посреди зала:
— Вот мы говорили о красоте. Я недавно целый день проторчал в Эрмитаже у Рембрандта. Какой-нибудь ростовщик у него уродлив, гадок, а картина прекрасна, потому что я могу все рассказать об этом человеке: кто он, как живет, что думает. У него и руки не просто руки, у него пальцы скряги и обиралы... К чему это я? Да, да! К тому, что я тогда подумал: написать бы с таким талантом портрет нашего Торжуева! Вы успели узнать его? Поглядеть — внешность даже благообразная, на семейных фотографиях, наверно, красавцем выходит. Сними его у карусельного станка — рабочий! Кадровик! А если написать его портрет по-настоящему, — ух, какой мелкий обыватель наружу вылезет!
— Вы прямо с ненавистью говорите о нем.
— А что я, подрядился по-христиански всех любить? Да, с ненавистью! Оттого, что свой, заводской, да еще работник первоклассный, — вдвойне ненавижу.
— А мне кажется, с ним просто не умеют работать. Это же все-таки не кулак, а рабочий!
— Шкурник он, вот кто! Эгоист. И в коммунизм его не потащишь. Для меня коммунизм — прежде всего время, когда любой человек, с которым встретишься в жизни ли, в работе ли, будет своим. Как у Маяковского, знаете? «Чтоб вся на первый крик: Товарищ! — оборачивалась земля...»
Сам того не замечая, он снова взял ее за руку: так ему было удобнее высказать ей все, что теснилось в голове.
— Коммунизм — это ж будет горячее, страстное время, а не этакий скучный рай без волнений, без страсти достижения... До сих пор общественный строй всегда подавлял, глушил личность, так? Коммунизм даст ей полное развитие. Посмотрите на наших людей: как быстро в них раскрываются силы, талант, воображение! И с каждым годом это пойдет быстрее, шире. Мы сейчас решаем задачи, каких ни в одном столетии не решали... А как вы думаете, наши внуки будут нам завидовать? Нет, потому что именно при коммунизме будут решаться самые грандиозные задачи. Я иногда мечтаю: какие превосходные, невиданные машины будут еще созданы! Свободный труд, средств сколько угодно, высочайшая техника, — вот когда можно будет развернуться! И уж, конечно, иной раз и не есть, и не спать, и до рассвета проторчать в лаборатории над каким-нибудь опытом...
— Ух, как хочется дожить!
— Что вы, Аня! — воскликнул он. — Мы же и будем все это решать!
Они стояли посреди зала, совсем забыв о том, что они в музее. Посетители обходили их, некоторые косились с усмешкой: эти, мол, пришли не картины смотреть, а просто назначили здесь свидание.
Аня первою заметила косые взгляды, расхохоталась и увлекла Полозова к выходу:
— Пойдемте, Алеша, нас принимают за влюбленных.
Алексей отмахнулся и как-то вдруг помрачнел. Она сбоку наблюдала его и радостно думала: «Мы с ним будем дружить. Обязательно будем дружить».
Он вдруг остановился, загораживая Ане дорогу, и заговорил угрюмо и возбужденно:
— Вы сказали: «Раз вы не слушаете музыку — значит, вам и не нужно»... Меня это прямо царапнуло. И до сих пор саднит. Знаете что? Вы, наверно, лучше и умнее использовали время, чем я. Иногда я прямо в отчаяние прихожу, до чего я невежда! Может быть, это и смешно — идти на концерт не потому, что тебя тянет музыка, а потому, что хочешь проверить, чурбан ты или нет. Но ведь просто стыдно не понимать музыку, или архитектуру, или живопись... так же стыдно, как не читать книг. Читать я читаю, но все же пропускаю многое. И вообще у меня кругом белые пятна. Когда я вспоминаю свои студенческие и школьные годы, меня прямо трясет от злости: столько времени я разбазарил! Пробелы, пробелы, пробелы, и черт его знает, сумею ли я все нагнать, восполнить!
Музей закрывался, служители торопили публику уходить. Алексей зашагал к выходу крупными шагами. Она шла немного позади него, с улыбкой глядя на его широкие, сутуловатые плечи и сильную шею с упрямым наклоном головы.
— Где же вы? — оборачиваясь у спуска в раздевальную, окликнул Алексей. — Давайте ваш номерок, поухаживаю.
Они вышли вместе, он проводил ее до остановки автобуса.
— А вы куда?
— А я еще поброжу.
Аня была бы непрочь побродить вместе с ним, но постеснялась навязываться. А он не предложил, даже вздохнул:
— Куда же это автобус запропастился?
— Вы так торопитесь отправить меня? Идите, я и одна не пропаду.
Он снисходительно кивнул и продолжал стоять рядом, думая о чем-то своем. «Ах, я люблю так сладко турбинные лопатки...» Иронический отзыв Гаршина казался ей очень несправедливым.
— Знаете, один человек сказал мне, что вы и жену ищете такую, чтобы говорить с нею о турбинах.
— Конечно, а как же? — с живостью откликнулся Полозов. — Если делить всю жизнь, как же не делить то, что составляет основу жизни? Впрочем, жену я не ищу, а шутки вашего Гаршина слыхал.
— Моего Гаршина? Почему же моего?
Алексей пристально посмотрел на нее и сказал:
— Ну, не лично вашего. Во всяком случае, он числится при женском сословии.
— Ого! Вы не остаетесь в долгу.
— Долг платежом красен.
— Вот так приятели!
— Это Гаршин сказал вам, что мы приятели?
— Я вижу, вы не любите его?
— А вы? — дерзко спросил Алексей.
— Он мне нравится, — с вызовом сказала Аня. — Очевидно, как и всем женщинам.
Ей было интересно, что он скажет, но в эту минуту, как нарочно, подкатил автобус. Алексей вежливо подсадил Аню под локоть. Она видела, как он зашагал по улице, свободно размахивая руками.
Дома напротив были еще освещены солнцем, а в Аниной комнате уже смеркалось. Идти куда-то обедать не хотелось. Аня перебрала свои скудные запасы — масло, хлеб, остатки ветчины, картошка... Ну и прекрасно, что может быть вкуснее вареной картошки с маслом?
Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка,
Пионеров идеал-ал-ал!
Тот не знает наслажденья-денья-денья,
Кто картошки не едал!
Песчаный берег реки Луги, домики среди сосен, высокое пламя костра и спугивающие пионеров клубы дыма, бросаемые ветром то в одну сторону, то в другую. У костра проводит беседу самый старший из мальчиков, самый умный из мальчиков, Павлуша Карцев. Он слывет в лагере ученым, он читал все книги и знает все на свете. Павлуша рассказывает о молодых строителях Магнитогорска, Сталинградского тракторного, Комсомольска-на-Амуре... и часто, но сурово поглядывает на Аню. В то утро Аня нарочно, чтобы подразнить дежурного пловца Павлушу Карцева, нарушила приказ и переплыла коварную реку. Карцев догнал ее уже у самой отмели на том берегу. Он начал бранить ее за своеволие, а она сказала: «Мне просто хотелось узнать — поплывешь ты за мной или нет?» Карцев покраснел и сердито сказал: «Как же мне не плыть, когда я дежурный? Ну, давай обратно. Давай, давай!» Она спросила: «А если бы не дежурил — не поплыл бы?» Он прикрикнул: «Давай плыви, не то!..» Она плыла разными стилями, ныряла, ложилась на спину и подшучивала над Павлушей, что он, хочет или не хочет, должен будет спасти ее, если она начнет тонуть. А у него был вид сердитый и беззащитный, и когда вышли на песок — пошел прочь, не оборачиваясь, длинноногий, худой, взволнованный...
И это его — нет? Этого тела, этих умных и добрых глаз, этого лица с рассеянным, всегда во что-то углубленным, задумчивым выражением, этого голоса... Нет? Совсем, навсегда нет?.. Был — и нет. И следа не осталось. И могилы не осталось. Ничего...
Картошка закипела, тоненько посвистывал пар. От электрической плитки веяло жаром, из-под кастрюльки выступал раскаленный малиновый ободок. А за окном медленно угасал весенний день.