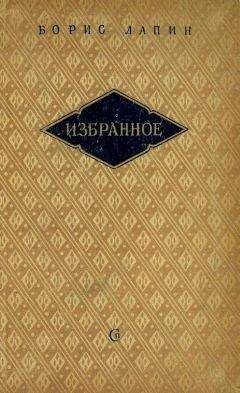Аратоки скучал. В городе никто не знал его. Японцев было много: все зажиточные купцы, агенты фирм и военные. Здесь Аратоки мог бы занять первое положение повсюду. Офицер… Летчик… Из столицы…
Даже хозяин гостиницы, прочтя в книге проезжих: «Место прибытия — город Токио», не знал, как лучше принять его. Он говорил с Аратоки, прибавляя к каждой фразе: «по моему глупому разумению» и «я глупо думаю, что так».
— А кто тут есть наиболее почтенный из жителей города? — спрашивал Аратоки.
— Я так глупо думаю: здесь только два стоящих дома и еще есть Сен Ок-хион, владелец завода — ремонт судов. Кореец, но в доме, сударь, бывают старшие офицеры гарнизона. Сен-аги, дочка, в прошлом месяце вернулась из Нагасаки. Высший женский колледж.
— Красивая ли, хозяин-сан?
— Лилия, летчик-сударь!
— Как же с ними познакомиться?
— Я глупо думаю, что — нанести визит господину Сен, сударь.
Так и поступил Аратоки.
Господин Сен Ок-хион жил в двухэтажном особняке, близко от кионсанской гостиницы.
Аратоки был принят в первом от вестибюля зале. Здесь не было никакой мебели — были подушки и валики для гостей, разбросанные на полу. В углу — красный столик в четверть метра высотой. Иллюстрированные журналы. Здесь был деловой приемный зал. Личные гости семьи господина Сена проходили обычно в гостиные, расположенные в глубине дома.
За тонкими планочными стенками начались движение и беготня. Стенка раздвинулась. Вышел подвижной низкорослый кореец в белой шелковой кофте, в вышитых шароварах. В левой руке он держал визитную карточку Аратоки.
Он сказал очень сладко, управляя голосом ровно настолько, чтобы не кричать на японского офицера:
— Извините, скажите господину генералу, что я каждый месяц даю пожертвования «Любвеобильному обществу». За эту неделю я дал четыреста иен жертвам землетрясения, военным вдовам и Дому моряков. Ко мне каждый день присылают младших офицеров.
— Я явился к вам без всяких распоряжений, господин Сен.
— Извините, я думаю так, что распоряжаться мною не может никто, кроме императорской власти.
— Вы ошибаетесь, господин Сен.
— Я всегда ошибаюсь с моим глупым разумом…
— Я явился по желанию…
— Меня никогда не спросят о моем желании. Я не даю больше ни копейки ни на землетрясения, ни на водотрясение, ни на неботрясение. Извините, прошу вас передать.
— Я, извините, не сборщик, господин, извините, Сен.
— Кто же вы?
Получалось неловко. Корейский негоциант проявлял удивительную грубость. «Может быть, зарубить его на месте? Глупо, нет повода для гнева. За глупость дело может обернуться высылкой. Разжалованием в солдаты».
Аратоки забормотал извинения. Он, собственно, незнаком, но прибыл на жительство и на службу в город Кион-Сан… Услыхал о господине Сене еще в Фу-зане… Наиболее выдающийся гражданин…
— Сочту за честь, господин капитан, — еще более вежливо сказал хозяин.
— Не будучи ни с кем знаком, решил направиться к вам…
— Если смею вам советовать, — в чужом городе приятно посещать кинематограф, господин капитан. Там можно найти самое лучшее общество.
(«Он, несомненно, издевается!»)
— Ваш начальник, командир воздушного гарнизона, бывает у меня запросто. Не знакомы еще с ним? У меня бывает и подполковник Садзанами. Мы очень одобряем кинематографы, господин.
— До свидания, господин Сен, прощайте.
— Прощайте.
Аратоки поклонился. Поклонился и Хозяин. Аратоки еще поклонился. Хозяин еще поклонился. Потом оба быстро закланялись друг другу, вежливо присасывая воздух.
— Прощайте, благодарю вас, господин Сен.
— Прощайте. Ходите в кинематографы. Благодарю вас, господин Аратоки.
— Прощайте!
— Благодарю вас.
— Прощайте!
Аратоки, откланявшись, повернулся и, как мог скоро, выбежал из дома. Кипарис в палисаднике толкнулся ему под ноги…
Я бродил возле озера Обэр, это был иммеморнэл йир…
«Теперь он будет рассказывать начальнику гарнизона… Ишь ведь — «бывает у меня запросто»… Зачем я пошел?.. Еще говорят, что японский офицер в доме корейца — бог… «Я спросил: «Что написано, систер, на двери этой лиджендэд тум?..» Еще бы, — он запросто с губернатором, с начальником гарнизона…»
У входа в палисадник остановился лимузин. Шофер открыл дверь. С подножки спрыгнула девушка. В белой кофте и юбке из змеиного шелка, шитых по корейской моде. Смуглая, длинноногая, веселая. Она держала теннисную ракетку. Рукоятка была спрятана в широком рукаве кофты.
Сен-аги… (Барышня Сен…)
Аратоки постарался пройти, глядя вперед и над горизонтом. Девушка посмотрела с недоумением, но без любопытства.
«Ну погоди, проклятый Сен!»
Погоди, проклятый Сен!
До тебя я доберусь.
Сохнет грязь апрельская,
Курятся лилии,
В глине хлюпает вода.
Быстро шагая по неровной и грязной улице, Аратоки постепенно успокаивался. «Небеса были пепел и собэр, ночью в тот незапамятный ийр, — это был одинокий октобэр…» «Зачем я так сделал?.. Теперь начнется унижение… Он мне совершенно не нужен…»
По сторонам не глядел. Все вокруг мелькало и сливалось. Споткнулся. Пошел мимо красных домов.
«Ах, Чосен!.. Дурачье все писаки, которые изображают корейцев, кроткий народ… добрый народ… какое-то странное помешательство, ясная грусть об утраченном счастье… Болтуны! «Листья были криспед энд сир..» Послать бы их к такому Сену… Какое это счастье он утратил?.. В общем никакого позора нет… Стыдно немного — не принят у корейца… Но позора нет… Страна утренней тишины. Как это дают так богатеть корейцам?..»
Он немного развеселился. «А девчонке-то я, кажется, понравился… Воспитана по-японски, в Нагасаки…»
Его шаги стали медленней. Огляделся по сторонам. Начались незнакомые места. Оживленная узкая и вонючая улица.
Хижина — глина и камыш, рядом домик — черепичная крыша с балконом. Что за улица? Повсюду вывески кинематографов, кабаков и веселых заведений.
Налево свернул в переулок — был виден край залива и цинковый волнистый забор какого-то портового склада.
Прошли две китаянки. Молодая и старуха. У них была походка больных — ноги завернуты в уродливые крошечные туфельки. Черные шелковые рукава. Зонтики.
На балконе второго этажа два торговца пили вино из одной чашки, обнимаясь и вопя:
— Теперь мы: твой глаз — мой глаз. Мы — побратимы. Теперь у нас одна кровь.
И пьяным голосом бубнил другой:
— Оскорби тебя кто-нибудь, — я вырву ему печень. Я — ты. Ты — я.
У наглухо запертой двери с большим замком, накурившись опиума, сидели оборванные люди. Их белые, должно быть, одежды, приобрели мутно-коричневый оттенок. Обвислые штаны состояли из чудовищных дыр, с которых свисали лохмотья.
Из-за двери шел горелый сладкий запах. Плоские пятиугольные лица были серы. Рот приоткрыт. Белые десны сверкали. Глаза закатились, как у мертвых. Щеки были в грязных кровоподтеках.
Два пьяных, неестественно обнявшись, лицами опрокинувшись в красную топкую лужу, с рычаньем копошились на дороге.
Сверкающий от дегтя матрос, качаясь на ногах, дремал возле зеленого писсуара, прибитого прямо к наружной стене дома.
В этом мире никто ни о ком не заботился и никто не хотел ничего скрыть.
Из-за светящихся изнутри бумажных стен маленького домика была слышна песенка: Женщина пела ее, стучась в чувства каждым слогом. Мяукал и стройно дергался ее голос. Мелодия тянулась тремя убогими нотами.
Ве-чер! Тень! Сосна!
С гор! Ползет! Лу-на!
Оглянусь — вез-де
Только ты одна!
Эта песенка проходила ноги и спину… «В кинематографы, молодой человек, в кинематографы, молодой человек!.. Дочь заводчика… Мог ли бы жениться на такой?.. Очень красивая шея… Нет!»
Теперь Аратоки внимательно глядел по сторонам. Он искал чего-то глазами. Смотрел под ноги. Видел слякоть, связывавшую шаг. Смотрел на женщин, выглядывавших из-за бумажных дверей. Слушал крики, стук дальнего завода, бормотанье, хлюпанье ног.
— Гей-гей! Джап!
— Ту-ту! Фэллоу!
— Сен ов э бидж! Япошка!
Диги-ди-гей!
Занимая всю улицу, из каких-то ворот вывалилась компания выпивших американских моряков. Все были, как на подбор, гиганты с длинными руками и ногами, узкими плотными плечами, в белых вязаных шапочках, шикарных костюмах, песочных галстуках с искрой, одеты с франтовством кочегаров.
Они скандалили. Это была предпоследняя ступень кочегарского кутежа. Они были накалены и ждали только повода для драки.