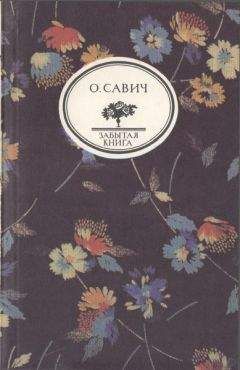Примирение со всей семьей произошло так же легко и быстро, как и с Еленою Матвевной. Пришла Елизавета и, увидев отца, вскрикнула:
— Ты уже дома?
Мать сделала ей большие глаза за спиною Петра Петровича, и в этом взгляде Елизавета прочла все: и страх, и любовь, и предупреждение. Она подавила внезапный приступ слез, подошла к отцу, а подойдя, кинулась обнять его, приговаривая не то жалобно, не то утешающе:
— Милый, милый папочка…
Пришел Константин, и Елизавета, уже все узнавшая от матери, догадавшаяся по взглядам и намекам Елены Матвевны, выбежала брату навстречу и предупредила его. И Константин, войдя, сразу начал рассказывать что-то очень смешное из институтской жизни, хотя и не совсем уверенным голосом. А сам Петр Петрович, полуизвинившись перед женою, вернее, объяснившись одним намеком, снова почувствовал себя на прежнем месте. Он даже не замечал сперва, что за ним усиленно ухаживают. Ему велели отдыхать, и он подчинился отдыху как необходимости.
Вечером, как всегда, пришел Камышов. Елизавета и его предупредила, он даже в комнату вошел почти на цыпочках. В этот вечер не было споров, не было крику и шуму. Все говорили, не замечая этого, пониженным голосом, старались улыбаться, старались рассказать что-нибудь веселое, спокойное, избегать разговоров о распределителе, — словом, всячески ограждать покой Петра Петровича и вместе с тем не дать ему заметить этого. И Петр Петрович не то чтобы не замечал, а не хотел этого замечать. После того, что он пережил в последние дни, он очень устал и теперь отдыхал в семье, в привычной обстановке. Тишина и уют, которыми старались его окружить, действительно успокаивали. Он не очень прислушивался к разговорам и сам тоже старался не замечать тревожных взглядов, которыми домашние обменивались за его спиною. Он еще не думал о том, что же такое с ним случилось, а столь недавнее прошлое отступило куда-то очень далеко. Ложась спать, он почувствовал, что от сегодняшнего утра его отделяло огромное расстояние, что день был очень длинен, пуст и спокоен. Но спал он почему-то плохо, часто просыпался и долго не мог заснуть, и даже засыпая, не целиком уходил в сон, а только полубодрствовал. Он встал поздно, с сознанием, что ему нечего делать, и с тяжелою головою.
Между тем вчера ночью, когда он уже ушел в спальню, домашние, переговариваясь опасливым шепотом, решили, что Елизавета еще до службы забежит к кому-нибудь из сотрудников распределителя и узнает у него точно и подробно, чем объясняется неожиданный отпуск отца. Долго думали, к кому обратиться, и остановились на Лисаневиче как на самом предупредительном. В восемь часов Елизавета уже была у него. Сперва он мямлил что-то неразборчивое в ответ на ее вопросы, но, волнуясь все больше и подозревая за его умалчиваниями и ускользающими глазами какие-то невероятные тайны, она так настойчиво допытывалась правды, что он не устоял и рассказал все: и про деньги, и про всю сцену в кабинете тов. Майкерского, и про военный совет, и про мотивы его решения. Елизавета кинулась домой — ведь после того, что она услышала, ей было не до службы. Лисаневич всячески пытался оправдать отца в ее глазах, но это удавалось ему, только когда он говорил о болезни. Болезнь и ей казалась единственным понятным объяснением. Болезнь страшила ее, но, по крайней мере, снимала с Петра Петровича тягчайшее обвинение. Дома она улучила минутку, кое-как оправдав свое появление, и вызвала перепуганную ее видом мать на кухню — на место всех женских исповедей в доме. Задыхающимся шепотом она передала матери слова Лисаневича. Елена Матвевна ничего не сказала. Она только тихо заплакала и затрясла вдруг головою, как глубокая старуха. Поплакав, Елена Матвевна отерла слезы и дрожащим голосом прошептала, словно извиняясь:
— Лизанька, ты на отца не сердись. Ты этого никому не рассказывай. Это ведь понять надо, а кто захочет?..
— А вы это понимаете, мама? — в упор спросила Елизавета, не понимавшая еще, что происходит с матерью, и в душе еще не оправдавшая отца.
Елена Матвевна была уже в дверях. Она обернулась и, посмотрев на дочь большими ясными глазами, в которых еще стояли слезы, улыбнулась как-то так по-хорошему, что у Елизаветы сердце забилось до сих пор незнакомым ей чувством жертвы, безмолвного понимания и любви.
— Только объяснить не могу, — извиняющимся шепотом прибавила Елена Матвевна, уверенно кивнув головою.
А когда Елизавета, справившись со своим волнением и сделав, наконец, безразличное лицо, снова вышла в столовую, Елена Матвевна подавала Петру Петровичу чай, и никто не мог бы сказать по ее виду, что она только что выслушала невероятный и страшный рассказ о самом близком ей человеке и сколько она при этом пережила.
…Когда ребенок поступает впервые в школу, он первые дни и даже месяцы встает на час раньше, чем нужно, не доверяя ничьим часам, завтракает стоя, на ходу, бежит по улицам и приходит в школу первым, часто дожидаясь у ворот сторожа, еще не открывшего двери. Он и не представляет себе, что можно опоздать, он со страхом, как на преступников, глядит на старших товарищей, вваливающихся в класс, когда учитель уже сидит на кафедре. Пропустить же день занятий, — кажется ему, приведет к чему-то вроде землетрясения. А в праздники он не знает, куда деваться от скуки. Но вот он заболевает, или отец оставляет его дома по случаю семейного праздника. Он рвется в класс и с температурой. Но он остается дома, и — ничего не происходит. На следующее утро он встает уже на полчаса позднее и приходит в школу далеко не первым. И опять ничего не случается. Тогда в один прекрасный день он просыпает начало занятий. Легкое замечание учителя не вызывает землетрясения. Потом как-нибудь он не успевает приготовить уроки и уже по своей воле остается дома. И вдруг школа начинает казаться ему скучной и ненужной. И так приятно, так заманчиво становится в часы занятий играть на заднем дворе в прятки.
Примерно такое ощущение испытывал Петр Петрович. Несколько лет подряд, день за днем, он с утра уходил в распределитель и возвращался только вечером. Он не пропустил ни одного дня и не знал отпуска. Праздники казались ему пустыми, он не знал, чем их заполнить. Весь день он жил заботами о службе, и вечером, усталому, ему некогда было подумать о другом. И вот оказалось, что в эту школу можно не пойти. Там все идет по-старому, бегают и пишут, принимают и отпускают товар, а Петр Петрович сидит у окна в кресле и может думать, о чем он хочет.
Он не прислушивается к тому, что говорили ему жена и дети. Он ведь хорошо знал их — что уж могли они придумать? И главное — он куда-то ушел от них, как от распределителя. Он и от семьи получил отпуск. Все, чем жили домашние, чем жили сослуживцы и знакомые, было ему прекрасно известно. И разговоры их казались ему бесконечным повторением одного и того же, даже в одинаковых словах. Это его совсем не раздражало, просто было несколько скучно и совершенно не нужно. Все они еще просто не поняли, что есть нечто другое, может быть вовсе не большее в сравнении с их мыслями и разговорами, но — другое. Петр Петрович очень хотел бы постичь это другое. Но он не знал, ни где его искать, ни как о нем думать. Прежде мысли кружились вокруг того же, о чем говорили все, теперь эти мысли сократились, отступили назад, но на месте их образовались только провалы. Это было даже мучительно: чувствовать эти провалы и неумело пытаться заполнить пустоту. А заняться чем-нибудь не хотелось. Службою заниматься можно было только в распределителе, газеты были знакомы, как разговоры, книги не увлекали, иных занятий Петр Петрович вообще не знал. Он отдыхал, и отдых был ему, пожалуй, приятен. Но все-таки в груди лежала скука, если и не столь острая, как раньше. И хотя вдруг напала такая лень, что не хотелось пошевелиться, но все-таки долго так продолжаться не могло.
Родные заметили его состояние. Одно время им казалось, что он собирается уснуть, и они стали ходить на цыпочках. Но он сидел с открытыми, хотя и неподвижными глазами, а застывшее лицо его выражало глубокую скуку. Тогда ему предложили отправиться погулять. Он согласился. Елизавета хотела пойти с ним, но ей неудобно было выйти на улицу, раз она не пошла на службу, да и Петр Петрович, кажется, предпочитал одиночество.
Родные проводили его и кинулись к окну. Они долго смотрели ему вслед, словно боясь, чтобы с ним чего не случилось на улице, или словно провожая его глазами в дальнее путешествие. Когда он наконец скрылся за углом, Елизавета первая отвернулась от окна и вскрикнула:
— Мама, что же это такое, мама?
За мать ответил Константин своим грубоватым, но мягким все же баском:
— Нехорошо, вот что! Может службу потерять. И нам тоже, если узнают, будет несладко. Были дети ответственного работника, стали дети растратчика.
— Костенька, — с тихим укором сказала мать, — ведь это ты про отца!
— Какая же растрата, — сказала Елизавета. — Другому дал, на себя ничего не потратил.