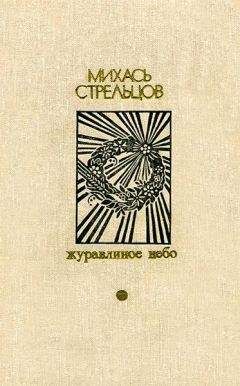Нет, и это сегодня не подходило мне.
Я закурил сигарету: она была туго набита и горела плохо. Мял ее в пальцах, пока не сплющилась и не стала ватной, но все равно курилась скверно, и во рту была от нее этакая сладко-противная горечь. Я раздавил сигарету в пепельнице и достал с полочки над столом пачку махорки, купленной на случай, если выйдут сигареты и поздно будет бежать в магазин. Сухой, горячий махорочный дым остро защекотал в носу, и как-то сразу прояснилось в голове, и неожиданно вспомнилась далекая осень, когда мы — еще первокурсники — ездили в колхоз копать картошку. Однажды был дождь, и мы промокли на поле, прибежали к хозяйке в хату и растопили печурку. Под окном ветер трепал грушу, унимался и снова начинался дождь, сидели на сложенных у стены хлева досках куры, а потом хозяйка вышла во двор и вылила в корыто ведро пойла и отворила ворота хлева. Закудахтали, послетали с досок и побежали, забавно переваливаясь, к корыту куры, выскочили из хлева двое поросят, и тот, что побольше, начал сразу шумно чавкать из корыта, время от времени грозно задирая лыч, а меньший все визжал, бегал вокруг и не знал, как подступиться к корыту. Собака вылезла из конуры и ходила по двору, бренча цепью и к чему-то прислушиваясь. А мы, сидя в хате, курили махорку, и, помню, так хорошо было у меня на душе, и такое четко очерченное было все во дворе, в огороде, и так необычно, по-взрослому веселил душу размашистый косой бег ветра за окном, в поле, над которым туманно, затейливо сновали разлохмаченные тучки, сбивались гуртом, темнели, распахивая вдруг в небе оконце необыкновенной густой синевы. Мне было семнадцать в ту осень, и был теперь здесь, в городе, пожалуй, один-единственный человек, с которым, захотев, я мог бы об этом поговорить. Эмма. Эмма тогда тоже была с нами в деревне, и я уже знал, что пойду сегодня к ней.
Я не противился себе, я даже подумал, что Эмме мог бы рассказать про Ларису, и она поняла бы меня легко, безбольно. Между нами было уже все, что только могло быть, и ничего больше не будет. Я знаю это. Мы разошлись без взаимных обид — между мужчиной и женщиной не часто бывает такое. Эмма — хорошая: я с радостью стал бы другом ее мужа, выйди она замуж, и мужа бы не тяготило наше знакомство. За меня она замуж никогда бы не вышла: есть много такого, в чем мы очень уж похожи друг на друга. И у Эммы хватает чутья, чтобы понять это.
На улице я взглянул на часы: было без пятнадцати одиннадцать. Вообще-то поздно. И у Эммы нет теперь комнатушки с отдельным ходом, она квартировала у каких-то пенсионеров, с которыми жили еще бездетные сын с женой. Это была оригинальная пара. Жена не признавала за собой никакого греха. Бездетным считался муж. Давний спор между заинтересованными лицами решался обычно остро: кто от кого уйдет? Уходила жена — был виноват муж, уходил муж — считалась побежденной жена. Словом, веселенькая история. Меня в этом тревожило одно: что Эмма, налюбовавшись на такую семейную идиллию, еще на несколько лет отложит замужество. Вообще меня начинает пугать ее безразличие к собственной судьбе, и не понимаю я, что держит ее на той квартире. Привычка? Пренебрежение к мелочам быта? Нечего сказать, счастье — чувствовать себя загнанной в угол. В буквальном смысле. Небольшая комнатенка с застекленной дверью в коридор, да еще обставленная по пенсионерскому вкусу. Сплавили туда все ненужные вещи. И выбросить ничего нельзя, чтобы купить свое. И теперь Эмма — сторож при складе домашнего музея. Заложница среди пропыленных, побитых молью диванчиков, гардин и пуфов с патриархальными помпончиками…
Шло такси, и я поднял руку.
Мы ехали окутанной сумраком улицей — на огни реклам, на карминовое мигание стоп-сигналов, и я видел, как машины впереди гнали перед собой в дрожащем полумраке синие, пугливые тени, и, несмотря на поздний час, еще время от времени было слышно, как в широкой судороге шума сжимался и снова расправлял плечи город. Я заметил какую-то женщину, которая шла наперерез нашей машине, нисколько не прибавляя шагу, и когда до нее оставалось всего с десяток метров, я догадался, что она ничего не видит-перед собой. Таксист затормозил, и женщина подняла голову, неестественно резко выпрямилась, а потом в растерянности приложила руку ко лбу. И силилась улыбнуться.
— Эй ты, графиня, — крикнул таксист, приоткрыв дверцу, — глаза твои где? Какой себя доставишь мужу?
И шумно захлопнул дверцу и почему-то повеселел. Нащупал рукой на щитке кнопку приемника — и полилась музыка, такие знакомые аккорды: будто над водой колыхался туман, а сквозь него все силилось и силилось пробиться солнце, и пробивалось наконец, медленно прогоняя сумерки, разливаясь печальным в своей неторопливой уверенности светом.
— «Полонез» Огинского, — сказал таксист. — Классная музыка.
Ах, Михал Клеофас, какая завидная у тебя судьба! Тебе придумали красоту, безукоризненные манеры, сладкую, хотя и несчастливую, любовь к какой-то изнеженной панночке, и вечера за клавесином, и еще один, последний вечер с нею, уже чужою женой накануне прощания с родиной. Вот и этот таксист, круглолицый мужчина, не старше сорока, с густыми светлыми волосами, с низко напущенным на щеку уголком бакенбард, — вот и этот таксист расхваливает и твой «Полонез», и «Танец маленьких лебедей», и еще что-то, ну, где поют: «Ах, зачем мы, горемычные, родились на этот свет?» Вот-вот, «Аскольдова могила». Он говорит, что теперь не пишут ни музыки, ни книг, как когда-то писали, что тогда писали для души, сидели себе в имениях и писали, и потому музыка была первый класс, а теперь он знает одного писателя, которому помогал доставать новые скаты, так тот писатель признался ему, что нужно ремонтировать «Москвич», а денег нет, и потому нужно поскорее садиться за новую книжку. И еще будто бы тот писатель подарил ему одну свою книжку, но он, таксист, читать ее не стал.
Он снисходителен, простоват и в то же время самоуверен, этот таксист.
Я понимаю: у него свой новенький дом где-то на окраине, и холодильник, и телевизор, и во дворе собака на цепи, и школьник-сын играет на каком-то инструменте, и жена, привезенная в свое время в город откуда-то из-под Плещениц, уже не спит ночами, думая, как бы устроить дочь в школу с английским языком обучения. А у меня нет пока ни собственного дома, ни «Москвича», — так почему бы мне не заступиться за современность? И я говорю ему, что нет, он ошибается, что и книжку того писателя нужно прочесть, и что искусство вообще принадлежит народу, и что, имея телевизор, можно не ходить в кино, и что теперь каждый знает, что Шекспир — это голова, и Аркадий Райкин — тоже голова. И что он, этот недовольный таксист, может потребовать, если захочет, от любого композитора песенку про зеленый огонек своего такси да и вообще поинтересоваться, когда тот композитор последний раз был в командировке.
Он не согласен со мной, злится, и ему вдруг начинает мешать дым сигареты, которую я курю, и он говорит, что много нас таких оборачивается у него за день, и если каждый станет… Словом, я гашу сигарету и молчу, а он выключает приемник. На прощание я протягиваю ему рубль, и он ворчит, что у него нет мелочи на сдачу, но я молчу и не собираюсь вылезать из машины: у меня теперь уже вовсе нет охоты собственными руками положить пару кирпичей в стену того погребка в саду, которого, должно быть, ему только и не хватает, чтобы полностью переключиться на жизнь для души.
Я ждал, и он начал отсчитывать сдачу, всем своим видом выказывая презрение ко мне, нарочно выискивая — я видел — одни медяки. Он широким жестом швырнул их мне на ладонь и тут же выключил в такси верхний свет (это тоже был знак пренебрежения), и тогда я сказал, что деньги вообще любят счет, и попросил, чтобы он все-таки включил свет. Он, верно, не ждал от меня такой настырности, потому что сразу поспешил включить свет: теперь уже я неторопливо — нарочито неторопливо — пересчитывал медяки, решая про себя, дать один из них ему на чай или не давать. Потом я подумал, что достаточно проучил его, и только позволил себе подчеркнуто вежливо проститься и с той же неторопливостью закрыть дверцу. Он газанул так, что едва не заглох мотор: машина рванула с места, сухо выстрелив в меня дымом. Теперь я не завидовал пассажиру, который сядет к нему после меня.
Неожиданное приключение немного меня развеселило, и только у двери Эмминой квартиры я вспомнил, что уже довольно поздно и что, видно, это нехорошо так внезапно нарушать честно заслуженный пенсионерский покой да еще поднимать с постели ту самую пару, особенно если они как раз пребывают в мире и не пеняют в эту минуту друг на дружку, а разве только на судьбу или на господа бога. Позвонив, я долго вслушивался в тишину за дверью и был обрадован, когда в коридоре кто-то громко зашлепал: дверь внезапно распахнулась, в лицо мне ударил свет, и я невольно отступил в сторону. На пороге стояла высокая, как мне показалось, женщина (может, ее делали такой длинный, с талией чуть ли не под мышками, халат и маленькая голова, обвязанная на ночь платком, из-под которого как-то беспомощно-наивно торчали вяло-розовые, приплюснутые уши?). Женщина ойкнула, запахнула халат на груди и, переламываясь в поясе, мелко потопала в залитый светом коридор на странно прямых, негнущихся ногах, уцепилась за ручку двери, ведущей, очевидно, в зал, и, уже успокоившись, остро глядела на меня. Мне было смешно, и я молча шагнул через порог; у женщины было теперь то неприятно откровенное, оголенное выражение лица, когда человеку безразлично, что о нем думают.