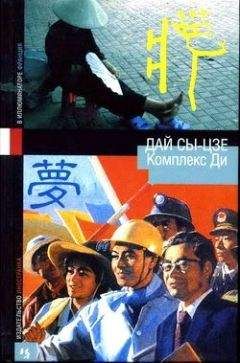Шигали двумя улицами тянется с севера на юг. Верхняя да Нижняя, Тукас да Анаткас, — вот они, эти улицы, улицы его детства! С востока и запада деревню охватывает молодой колхозный сад. Сад огорожен хорошим забором, да потом еще два ряда высоких уже ветел — ветрозащитные посадки, и в этом деле у Сетнера тоже все на высоком уровне. Наверное, у каждого талантливого человека, за что бы он ни взялся, все получается и умно, и красиво. Но вот странное дело, такие люди и их дела почему-то вызывают настороженность. Серость, глупость — она словно бы везде желанна, везде своя, потому что все сразу видят, что это такое, тут никакого секрета, никакой тебе угрозы, как будто что-то родное, близкое. А умный, смекалистый, талантливый руководитель почему-то всегда вызывает настороженность. С этим же садом Сетнера чуть было не сняли с председателей, обвинив в том, что он сократил пахотные земли, занял лучшие участки, а дохода от них нет, и когда он еще будет! Кроме того, этой ситуацией воспользовались сами же шигалинцы. Ведь они испокон веку были отличные садоводы и огородники, еще до войны у каждого был отличный сад, они обеспечивали клубникой, вишней и смородиной, сливами и яблоками всю округу, а когда отменили сельхозналог в пятьдесят третьем, то сады развели заново, да поболее и побогаче прежних. А тут появился на рынке конкурент — свой же колхоз!.. И пошла писанина в самые различные инстанции: истинная-то цель скрыта, а гнев благородный — дохода нет, сократил посевы пшеницы, занял лучшие земли, колхоз несет убытки! Да и писанина-то все анонимная.
Но Сетнер Осипович и здесь нашел выход: строительство винзавода. Раздобыл и проект в плодово-ягодном совхозе да с этим проектом и прикатил: «Алексей, земляк, помогай-спасай!» Конечно, винзавод был маленький, одно только название — завод, но двум инженерам в порядке шефской помощи пришлось повозиться изрядно, в Шигалях даже и женить их хотели, а Сетнер и дом построил для них. Правда, в скором времени этот дом занял молодой армянин, «винодел с образованием», и вот уже лет пять заправляет делом и уезжать, кажется, не собирается.
По шигалинским улицам как и прежде — в два ряда ветлы. Кроны их разрослись, ветви вверху переплелись, и такая прохлада была в этой зеленой тени, что шофер не выдержал своего восхищения:
— Красивая деревня!..
Алексей Петрович кивнул:
— Да, деревня хорошая…
— И богато живут, — заметил вдруг шофер. — Все строятся, да и дома-то вон какие — настоящие кермени!
А вот и родной дом!.. Среди каменных хором он кажется совсем маленьким, но стоит ровно, окошки с белыми занавесками чисто поблескивают, и весь он такой ладный, как орешек. Юля теперь живет здесь, Юля Сергеевна. Хорошей хозяйкой оказалась Юля…
Машина ровно катилась по мягкой дороге, и пыль шлейфом поднималась за ней. Когда Алексей Петрович оглянулся, то из-за пыли он и не увидел домика, где родился.
Редкие прохожие оглядывались на такси и, наверное, гадали: к кому это гость катит? Но вряд ли кто узнал Алексея Петровича. Да и он пока не узнавал никого.
— Вот и приехали, — сказал он наконец.
Машина остановилась. С минуту шофер и Алексей Петрович сидели и молча глядели на веселый, весь в деревянной резьбе дом. Да, здесь живет его сестра Урик.
— Может быть, отдохнете? — спросил Алексей Петрович.
— Нет, — отказался шофер. — Тавтабусь. Спасибо.
Он неуверенно отсчитывал сдачу, но Алексей Петрович остановил его.
— Еще раз тавтабусь, — сказал парень. Потом он развернул машину и, поднимая пыль, умчался обратно.
С минуту Алексей Петрович стоял и смотрел на дом сестры Урик. Дом что надо: обшит в «елочку», покрашен голубой краской, а четыре окна в резных наличниках, точно в кружевах. И к дому примыкают ворота — в таком же роде обшиты и выкрашены. Красиво, ничего не скажешь. Словно всеми работами какой-нибудь художник руководил. Но нет, дело обошлось без художника, это все руки зятя Афанасия. А вот и он сам выглянул, отворив младшие ворота. Узнал, заулыбался. Когда в 44-м зять демобилизовался по контузии, едва ходил с палкой, а слышал совсем плохо, так что легче было ему писать на бумажке, чем докричаться. А теперь вот ходит бойко и со слуховым аппаратом слышит совсем хорошо. Идет навстречу несмело, припадая на левую ногу.
— Лексей!..
Обнялись. Алексей Петрович чувствует на своей щеке его щетину.
— Забыл ты нас совсем, — бормочет зять с волнением. На глазах у него блестят слезы. Да и как не волноваться, ведь ом был для Алексея вместо отца и старших братьев, которые так и остались на войне.
— Раз приехал, значит, не забыл.
— А похудел ты, Лексей. И виски седые. Не легок, видно, твой хлеб, а?..
— А ты выглядишь молодцом, время тебя не берет!..
Зять замахал рукой: пустое, мол, говоришь, пустое, — и сдернул кепочку:
— Гляди, полысел, как прохвессор, — и засмеялся. А смеялся он каким-то чистым, детским голоском, будто колокольчик звенел. — Пойдем давай в дом, вот мать обрадуется!..
Зять Афанасий и в самом деле заметно постарел, меньше волос на голове, больше морщин на шее и на лице. Но такой же худущий, как и раньше, так же любит носить клетчатые рубахи, и чтобы они были чистые, глаженые. И так же, как раньше, весь пропах деревом и табаком.
Сестра Урик выбежала в сени, ударила себя по бедрам:
— Ой, боже, Олеша! — и бросилась брату на грудь. — Ой, боже, Олеша! Хочу приехать хоть раз в Чебоксары да все не могу собраться!.. — Со слезами, на глазах она обнимала Алексея Петровича, и он почувствовал, что она все знает о Дине, о его теперешней одинокой жизни. И плакала она, видно, от жалости. — Эка я дура, — спохватилась она, — пойдем давай в дом!..
В сенях было прохладно, хорошо пахло березовыми вениками, а на маленьком окошке под занавесочкой бился о стекло огромный шмель. Все эти тайны деревенского дома волнуют сердце в первые часы, в первые дни, а потом к ним мало-помалу привыкаешь, привыкаешь к сестре, к ее быстрой речи, к этим постоянным вопросам о том, не проголодался ли ты, не хочешь ли покушать. И сколько живешь — неделю, две, все время пироги, блины, мясо, мясо…
Вот уже и сейчас, отстранившись от брата, Урик отдает приказание Афанасию:
— Сбегай в табун за бараном, а я пока поставлю яичницу.
— А где стадо? — с явным неудовольствием отвечает Афанасий — ведь ему тоже хочется побыть рядом с Алексеем. — Я не знаю, куда сегодня погнали…
— Известно куда — в лес по первому просеку.
Афанасий еще потоптался, но делать нечего — взял веревку и мешок.
— Я пошел…
— Да поживей, не задерживайся там!
— Не задерживайся! Как будто в магазин иду, а не в лес…
Ушел Афанасий, а сестра принялась за дело: загремели сковородки и кастрюли, застучали ножи и ложки, запахло жареным, а между тем она успевала сообщать брату о родне, о том, кто у кого родился, кто на ком женился, при этом то и дело с радостными слезами на глазах взглядывая на брата.
— А я ребенка Димкина качаю, вдруг слышу — машина. Кто, думаю, такой приехал?! — сообщала она уже который раз об этом моменте, как будто с него началась у нее другая, радостная жизнь. — Хочу бежать к тебе, а ноги у меня так и подкосились. Ой, Олеша, Олеша!.. — повторяла она опять с жалостью, но дальше не решалась говорить на эту тему, ждала, видимо, пока начнет сам брат. Но Алексей Петрович не торопился. Наоборот, он старался отвлечь сестру, выспрашивал шигалинские новости, хвалил Афанасия — как он украсил дом! Да и внутри было все чисто, все подогнано и покрашено, ничего лишнего и все так удобно — и водяное отопление, и газовая плита, на которой уже вовсю фырчала яичница на сале с луком.
— Да что у нас! — отмахнулась сестра. — Ты вот посмотришь, какой дом Дима отгрохал!..
— Хороший дом получился?
— С ума он сошел с этим домом, вот что! Живут втроем, а такая громадина, что заблудишься!..
— Ну что ж, они еще ребята молодые, семья прибавится…
— Да там хоть три семьи — места хватит. Одной уборки на целый день, техничку надо держать. Сам в школе, сноха в школе, а мне достается!., Сейчас помидоры принесу.
Сестра убежала, а Алексей Петрович стал выкладывать подарки. И когда Урик вернулась, он накинул ей на плечи розовую кофту, которую купил в Норусово. Сестра радостно вспыхнула.
— Совсем девушкой стала, — сказал Алексей Петрович.
— Зачем тратишь деньги? — стала она укорять его, хотя и рада была подарку брата, — Ты так столько расходовал на моих детей, что я вовек с тобой не рассчитаюсь. А когда ты учился, мы сами тебе копейкой не помогали, стыдно перед тобой, Олеша, так стыдно! — И заплакала.
То ли с годами душа сестры чувствительнее стала, то ли сама жизнь, над которой не висит постоянная угроза нужды, делает человека нежнее, но только прежде он никогда не видел, чтобы сестра плакала, Нет, она плакать не умела, сердцу ее чужды были жалость и сострадание, — так, во всяком случае, казалось тогда ему. Но бот оказывается, что сестра очень чувствительная женщина, сердце у нее отзывчивое…