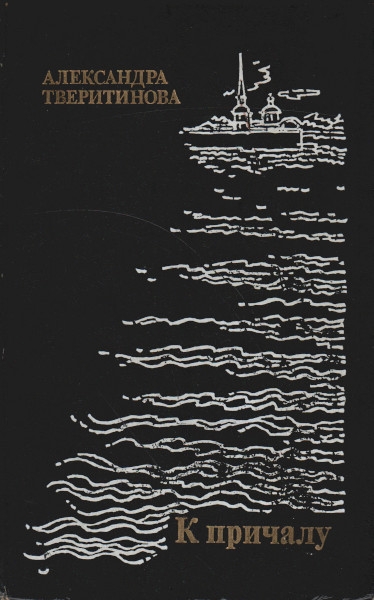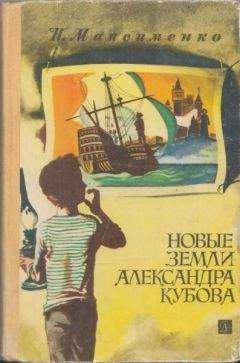обедала с сестрой. После этих обедов с Клодин она являлась утром на работу как все, к девяти, а не раньше, как в остальные дни. И весь день бывала за машинкой вялая и сонная.
— Здравствуйте, Мадлен! — крикнула я из вестибюля.
— Здравствуйте, мадемуазель Марина!
Я взяла из шкафа свой халат и, не надевая его, устремилась в лабораторию — побыть с Мадлен, пока еще никого нет.
Мурлыча себе под нос песенку, Мадлен возила по полу влажной шваброй. Я уселась на табурет, положив халат на колени.
— Мадлен, вы ходите к Стене федератов? — выпалила я, еще не отдышавшись.
— Куда? — Мадлен остановилась посреди лаборатории.
— На Пер-Лашез, к Стене коммунаров.
— Не-ет...
— А Марсель?
— И Марсель не ходит.
— А я — да!
— Как! Правда, мадемуазель Марина?
— Правда. Вчера! С ячейкой завода Рено!
Мадлен стояла, уткнув подбородок в ручку швабры, и смотрела на меня так, будто в первый раз меня увидела,
— С коммунистами я.
— Ни к чему это! — буркнула Мадлен и, широко махнув шваброй, протянула по полу мокрую дорожку.
Мне стало обидно. Я попыталась рассказать, что видела и что чувствовала.
— Если б вы были вчера там! Каких я видела людей, Мадлен, если б вы только знали!
— Никому тут об этом не говорите. — Мадлен строго нахмурилась.
— Почему?
— Не надо. Говорю вам, не надо, — упрямо повторила Мадлен. — Слушайтесь меня. — Она кинула взгляд на стеклянную стену кабинета шефа.
— И месье Мартэну?
— Он из «Боевых крестов».
— Ну да?!
— Раз я говорю — значит, знаю.
Я не раз слышала, как шеф, болтая со старым Матюреном, комбинатским консультантом, называл имя де ля Рокка и, кажется, выражал симпатии к «Боевым крестам», но я не очень прислушивалась, мне было неинтересно. Теперь же, когда я узнала, что Мартэн сам из «Боевых крестов», я почувствовала к нему настоящее отвращение.
— А месье Дюбуа? — спросила я растерянно. — Месье Дюбуа можно сказать? Он радикал-социалист.
Мадлен повела плечом и отвернулась к раковине:
— Не смешите меня, мадемуазель Марина.
— Ну, Мадлен, это вы уж слишком!
— Я вам дело говорю.
Она закрыла кран и повернулась ко мне:
— Я, мадемуазель Марина, не лезу в политику. По мне, всё одно — что социалисты, что коммунисты. Коммунисты — те хоть за рабочих. Ну и пусть их. Я политику не люблю. А только что до этих, так я их всех как облупленных знаю — кто что́ и кто — за кого. Увидите сами, потом спасибо скажете.
— А мадам Ламбер? — спросила я, еще больше растерявшись.
— И мадам Ламбер ничего не надо говорить, — твердо ответила Мадлен. — Я не скажу про нее ничего плохого. Была любовницей «большого патрона», ну, так что? Ничего зазорного в этом нет, все немножко шлюхи. Думаете, жена «большого» — не любовница чья-нибудь? Такова жизнь, мадемуазель Марина. Вы мало еще жили, поживете — сами увидите. Нельзя человеку жить и ничего не делать. А женам ихним с утра до ночи делать не черта — вот они и находят себе занятие.
— Ну что вы, Мадлен, выдумываете!..
— А что, нет, скажете? А Клодин? Думаете, обеды ихние — это что? Пока любовник в отъезде, Клодин...
— Мадлен, что вы такое говорите! Прямо стыдно.
— Мадемуазель Марина, честное слово, вы как будто только что родились. Надо видеть вещи такими, какие они есть. Когда шлюшка становится постоянной любовницей, она начинает играть под «мадам». Это несложно, боже мой!
В вестибюле открыли дверь. Мадлен отвернулась от крана и схватилась за швабру. Я соскочила с табурета и стала надевать халат.
Пришел химик, на ходу улыбаясь мне:
— Уже? Что так рано?..
И опять звякнуло — мадам Ламбер. Прошла в кабинет, кивнула через стеклянную стену.
Громко хлопнув дверью, влетел к себе шеф, бросил на стол портфель — и к мадам Ламбер:
— Здравствуй, «тотот»! — И с ухмылочкой: — Как прошел обед?
Мадам Ламбер смерила глазами его щуплую, вылощенную фигуру.
— Займитесь лучше делом, — небрежно ответила она и отвернулась к машинке.
Глядя ей в спину, Мартэн расстегивал пиджак, элегантный, светло-серый, безупречно пригнанный по фигуре. Медленно растаяла на лице ухмылка.
Я достала из термостата штативы с реакциями Вассермана, выставила на стол вчерашние посевы.
— Э-э, малышка, положительные есть? — крикнул шеф в открытую форточку.
— Два Вассермана и, кажется, одна дифтерия. Сейчас проверю.
— Поторапливайся!
И пошел надевать халат.
— Месье Дюбуа! — закричал он из коридора. — Анализ доктора Гренье — срочно! Мадле‑ен!
— Я тут, месье!
— На дверях не начищены ручки! Ручки! Сколько раз повторять!
— Сейчас, месье!
— Это делают в субботу! В субботу!..
Прозвенев подковками по плиточному полу, вернулся в кабинет и сел, ноги на стол. Ему как на ладони видны обе лаборатории: сначала моя, а через стену — химическая. Ни одно наше движение от него не ускользает: сидит и ждет, к чему бы привязаться.
— Малышка, ну-ка, неси Вассерманы!
Оторвавшись от микроскопа, несу ему штативы к оконцу.
— Нет! Сюда неси!
Поставила на стол.
Мельком осмотрел:
— Ладно. Убирай. Неси бланки.
И опять уселся. Молча посматривает сквозь стеклянную стену. Теперь началась охота на химика. Не любит он Дюбуа. Третьего дня чуть было не подрались.
— Бьюсь об заклад, ходил вчера на Пер-Лашез! — говорит он вдруг мадам Ламбер, всматриваясь в Дюбуа через двойное стекло. — С коммунистами-ободранцами... «Интернационал» горланил... Радикал...
— Оставили б вы его в покое, — говорит ему мадам Ламбер, не отрываясь от машинки.
— Раздражает он меня!
Мой стол у самой стены, но стены стеклянные, и мне хорошо слышно и всё видно. А как не хотелось мне в это утро видеть и слышать то, что происходило здесь! Скорей бы вечер!
Пришел консультант комбината, магистр фармакологии Матюрен, полковник в отставке. Коренастый,