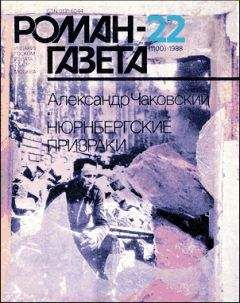Нет, не о золоте и бриллиантах думал Адальберт, когда мысленно перебирал свои сокровища. Перед его глазами возникали скромные записные книжки. Не может быть, чтобы они никому не понадобились!
В городе, еще недавно считавшемся второй после Мюнхена колыбелью нацизма, наверняка остались люди, преданные Гитлеру, пусть мертвому. Великие идеи не умирают!
Но где они, эти люди, как их найти?
Браузеветтер
Он хорошо помнил название улицы, где жил Браузеветтер: Драхенфельсштрассе, 24. Была надежда, что Дитриха не тронули: из-за застарелого процесса в легких он не принимал участия в войне и даже не был членом партии — его не приняли в НСДАП по подозрению в чересчур тесных связях с расстрелянным по приказу Гитлера Ремом.
Все годы, сколько знал его Адальберт, Дитрих работал скромным преподавателем гимназии, но был предан национал-социализму так, как мало кто из близких знакомых Хессенштайна.
Браузеветтер жил один — у него не было ни жены, ни детей. Старый холостяк. Три раза в неделю — и это вспомнилось — прислуга приносила ему продукты, готовила, убирала комнаты. Дом имел мало шансов уцелеть при очередной бомбежке, да и прислуга — она была вдовой часовщика, — наверное, затерялась где-нибудь среди десятков тысяч людей, работавших на восстановлении города. В прежнее время Адальберт отыскал бы Драхенфельсштрассе даже ночью с закрытыми глазами, но сейчас, когда почти весь город был превращен в развалины и многих улиц просто не существовало, ему потребовалось не менее часа, чтобы увидеть знакомые очертания полуразрушенного квартала. О, счастье! — дом Дитриха Браузеветтера уцелел. Но жив ли Дитрих? Почти бегом приблизившись к двери одноэтажного, старинной постройки дома, Адальберт, стараясь унять сердце, постучал в дверь.
Никакого ответа. Постучал громче, приложил к двери ухо. Наконец послышались там, за дверью, шаркающие шаги. Слуховой обман? Нет, шаги приближались. Потом раздался приглушенный дверью голос:
— Кто там? — Адальберт не мог ошибиться; это голос Дитриха! На всякий случай он спросил:
— Господин Браузеветтер здесь живет?
— Что вам угодно? — послышался из-за двери неприязненный вопрос.
— Дитрих, это я, Ади! — уже не владея собой, громко проговорил Адальберт.
— Какой Ади?
— Адальберт Квангель! — Хессенштайн уже так приучил себя к новой фамилии, что машинально произнес ее и теперь.
— Я не знаю никакого Квангеля!
— Ну приоткрой хотя бы чуть-чуть дверь, и ты увидишь, что это я, твой старый друг!
Звякнула цепочка, дверь чуть-чуть приоткрылась.
— Это я, Адальберт, — торопливым шепотом проговорил Хессенштайн. Короткая пауза. Потом Браузеветтер крикнул срывающимся фальцетом:
— Я не знаю никакого Адальберта! Уходите!
Ну, конечно, Браузеветтер не мог узнать своего изуродованного друга… Вцепившись в ручку двери, чтобы не дать возможности захлопнуть ее, Адальберт чуть не плача, шепотом, чтобы не привлечь внимания прохожих, стал уговаривать:
— Я тебе все объясню, только открой дверь! Не пугайся моего лица, это я, Хессенштайн, во имя нашей дружбы открой и впусти меня!
Опять наступило молчание. Браузеветтер обдумывал услышанное. Наконец дверная цепочка снова звякнула, и дверь приоткрылась настолько, что Адальберт мог войти.
— Неужели это ты? — все еще недоверчиво проговорил Браузеветтер. — Бог мой, что они сделали с твоим лицом? — Хозяин поспешно захлопнул дверь, повернул ключ в замке и наложил цепочку. Он снова и снова вглядывался в гостя. Сухим, отчужденным голосом сказал: — Если вы провокатор, тем хуже для вас. Я сейчас вызову американский патруль и попрошу проверить вашу личность. Я всеми уважаемый учитель, не имел и не имею никакого отношения к нацисту Адальберту Хессенштайну.
— Что ты такое говоришь, подумай! Мои документы в порядке, — прислонясь спиной к двери, устало сказал Адальберт. — Вот посмотри… — Он сунул руку во внутренний карман пальто и вытащил помятую карточку. — Смотри, читай, я Квангель, возвращаюсь из Берлина в Нюрнберг. А лицо… Впрочем, впусти меня в комнату, и я все расскажу. — Не дожидаясь приглашения, Адальберт решительно направился в кабинет Браузеветтера. Он знал эту квартиру, как свою собственную. Браузеветтер растерянно последовал за ним.
В кабинете было все по-старому: полки с книгами сплошь прикрывали стены, в центре комнаты стоял письменный стол, по одну его сторону — стул с диванной подушкой на сиденье, по другую — два старых, продавленных кожаных кресла.
— Может быть, пригласишь меня сесть? — Адальберт, не ожидая ответа, опустился в одно из кресел. Он не снял пальто и держал рюкзак на коленях. Браузеветтер облокотился о спинку другого кресла. Невысокого роста, с остроконечной бородкой — ему не хватало только колпака, чтобы окончательно стать похожим на гнома.
— Хайль Гитлер! — Адальберт привстал и поднял правую руку.
— Хайль Гитлер! — так же тихо ответил Браузеветтер и выпрямился. — Теперь я узнал тебя, Ади. Но что произошло? Кто тебя так изуродовал? Как тебе удалось выбраться из Берлина?
— Пластическая операция. А документ помог получить пастор Вайнбехер, помнишь его?
— Ты, конечно, еще не был у Ангелики? Впрочем, правильно, что сначала пришел ко мне. Идти домой, предварительно не разузнав, что происходит в твоем доме, было бы опрометчиво.
— Я знаю, что происходит в моем доме, — угрюмо ответил Адальберт. — Моя жена спуталась с американским офицером.
— Ангелика с… американцем? — воскликнул Браузеветтер. — Никогда в это не поверю!
— Я собственными глазами видел. Они выходили из дома ночью, и американец держал ее под руку, — злобно ответил Адальберт.
— Это… это просто невероятно! — бормотал Браузеветтер. — Может быть, его вселили туда против ее воли?
— Против своей воли порядочная женщина не пойдет на ночь глядя с врагом нации, а может быть, и с убийцей своего мужа! Они пошли в американский кабак, куда же еще?!
Браузеветтер умолк, по-видимому, не находя убедительных слов, чтобы оправдать Ангелику.
— А я-то хорош! Держал тебя, как нищего, у порога… Послушай, Ади, тебе надо умыться, привести себя в порядок. К сожалению, не могу дать ничего из одежды, мы слишком разные с тобой. Но чашку кофе, конечно, готов предложить. А все разговоры — потом. Сейчас провожу тебя в ванную…
— Не беспокойся, я помню, где у тебя ванная, — сказал Адальберт, вставая. — Я вообще помню все, что связано с тобой, мой друг Дитти.
И вот они уже снова сидят за столом. Адальберт выбрит, щебеночная пыль с костюма счищена, пальто он повесил в прихожей, а рюкзак — по выработавшейся привычке — запихнул поглубже под ванну.
— Итак, рассказывай, — попросил Браузеветтер.
— Я присутствовал при крахе третьего рейха… Испытал все унижения, какие можно представить. Все, кроме голода, — у меня остались кое-какие ценности. Потом… — И Адальберт коротко поведал Браузеветтеру о своей жизни, жизни бездомной собаки, потом о доме Крингелей и обо всем дальнейшем, начиная с неудачных попыток достать фальшивые документы и кончая Вайнбехером и пластической операцией.
— Да… — со вздохом произнес Браузеветтер, — операцию тебе сделали искусно, ты действительно не похож на себя.
— Внешне! — резко произнес Адальберт. — Но в душе я тот же: готов мстить трусам, предателям — всем, по чьей вине мы не сдержали монголо-еврейские орды, сдали Берлин. Сейчас большевики делают все, чтобы отвратить души немцев от национал-социализма. Если бы ты видел, на какие уловки они пускаются, чтобы вытравить добрую память о нас. Они бесплатно раздают хлеб, расставили свои военно-полевые кухни и кормят берлинцев супом и кашей. Но довольно об этом! — резко оборвал себя Адальберт. — Я жду, что ты мне скажешь о Нюрнберге, о себе.
— Что я могу рассказать? — с горечью произнес Браузеветтер. — Сейчас все взгляды обращены к Дворцу юстиции. Подумать только: банда еврейских плутократов устроила судилище над нашими вождями! Какое счастье, что фюрер не дожил до этого позора! Мало кого из немцев пускают в здание суда, но если верить газетам, все, кто сидит на скамье подсудимых, пытаются выгородить себя и свалить всю вину на фюрера… Конца процессу пока не видно. Но вся эта судебная банда использует каждый день и час, чтобы внушить миру мысль, что немцы — изверги, что руки их по локти в крови… Американская военная полиция денно и нощно рыщет по городу в поисках национал-социалистов, в особенности тех, кто занимал руководящие посты в партии…
— Но ты, я вижу, уцелел.
— Ирония судьбы, — с усмешкой произнес Браузеветтер. — Ты ведь знаешь, формально я не состоял в партии. Раньше это было для меня источником мук и обид, зато теперь у меня есть преимущества.
— И что же ты теперь делаешь?
— Формально все то же: учительствую в гимназии, преподаю немецкую историю. Правда, чтобы получить доступ к этому предмету, мне, как и многим другим учителям, пришлось пройти курсы переподготовки — там нас учили, видишь ли, тому, чем была Германия и чем она должна стать. Веду занятия три раза в неделю…