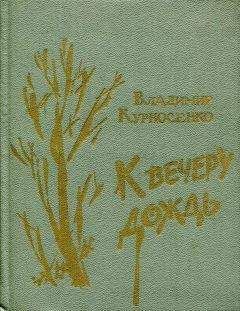«Кончилось и завершилось, кончилось и завершилось», — отстукивал поезд.
Ле-жал…
Бабушка внизу поведывала внучке, как прошел у них в школе вечер — «Сорок лет после окончания». Вечер встречи. Бабушка была не старая, с двумя золотыми коронками среди белых красивых зубов, а девочка избалованно-всматривающаяся, с блестящими черными глазами. Они разговаривали, словно б все еще были в купе одни, или будто он не посторонний, только что вошедший сюда человек, а свой им, родня.
— А затем, — говорила бабушка размеренным назидательным голосом, — мы сели за парты, и каждый из нас рассказал, как он прожил свою жизнь.
Сверху видны были пальцы: худые, суставчатые, в мелких лоснящихся, как у тополиных веточек, морщинках. Великоватое ей обручальное кольцо бабушка время от времени сдвигала с насиженного места и возвращала назад.
— А двое поженились… У него жена умерла, а у нее муж. Он, Коля-то, ее с восьмого класса любил.
И бабушка вздохнула. Быть может, она любила раньше этого Колю и сама бы смогла еще выйти за него замуж.
Да, да, прислушивался он у себя на полке, так и надо, так и должно! Он любил ее с восьмого класса, и прошло сорок лет, и они поженились.
— Они же старые, — сказала внучка.
Но бабушка промолчала.
* * *
Поутру на другой день лежал при задернутом шторою окне (ее не подняли, оберегая, по-видимому, его же драгоценный богатырский сон), лежал и тихо, сладко покачивался вместе с вагоном. Да, да, думал, это она такая и идет, жизнь. И пусть, думал. Пусть идет. И слава тебе господи.
Внизу бабушка, вероятно заметив, что он не спит больше, заставляла внучку поиграть на скрипке. Девочка, ее звали Света, училась в музыкальной школе и была скрипачка.
— Ты, Света, должна, — говорила бабушка, — я обещала Галине Арнодьевне!
И тогда, приподняв над окном штору (даешь свет-т!), придвинувшись и уперев в край полки небритый подбородок, он стал наблюдать, как вытаскивает девочка Света из футляра скрипку, как настраивает маленькую ее и крутобокую, как трет она аккуратно смычок прозрачным смоляным кусочком канифоли.
И лежал на спине, уставив глаза в потолок, в мягкие бирюзовые узоры.
Звук шел упруго: неожиданно, неправдоподобно как-то вблизи. Словно опусти вниз руку — и пальцами затронешь лохматенькую теплую его гривку. И ширился, и кружил уже в груди позабытый снежный восторг, и это опять заходил он на свой знаменитый прыжок. Вираж, въезд, взлет! И нет, нет, не шлепнуться ему на сей раз. Он… он будет теперь с Катей, и будет, будет, будет у них теперь отныне жизнь.
О, скри-и-ипка! О, юная душа.
Осипшей, вздрагивающей ей… внимал.
Споткнувшись, она подымалась с оцарапанных коленок и несла, несла дальше в розовых детских ладошках то хрупкое и серебристо-прекрасное, что вроде и было-то всегда на белом свете, да вот запропало куда-то на беду. Да, да, думал, разгоняясь по ледяному решающему этому кругу, все помнят и чувствуют его в душе, а потому только еще понимают и жалеют друг друга. Прости меня, Катя. Прости меня, Аким. Простите, юность моя и жизнь. Я стану, я стану… я еще вернусь к себе. Играй, играй, девочка. Пусть небо за окном серенькое и низкое, пусть зябнет бурая трава на припутейных холодных полянках, когда-нибудь все равно придет весна и сухие мертвые ее травинки вновь нальются зеленью. И потом снова осень, и опять, опять сызнова весна. И так и надо, так и надо.
Позвонили из санавиации: Александр Акимыч — в Кунашакский район. Срочно. Или сами собирайтесь, или из ребят своих кого-нибудь. Лучше бы сами. Хирург в Кунашаке толковый, раз зовет — подступило. Ну, зовет, говорю, готовьте, значит, что у вас там — машину, вертолет. Перевязки закончу, к профессору зайду насчет статьи — и пожалте, могу служить. Говорю и чувствую — нехорошо: профессор, статья — вроде хвастаюсь, а все равно приятно. Попросил, чтобы подавали в перевязочную Быкова, а сам снова к телефону. Люська, говорю, как вы там? меня в командировку, в Кунашак, дня на два. А она — езжай, все в порядке, Ленка сосет вовсю, тебе от нее привет, мы тебя ждать будем. Это тоже приятно. Приятно, когда ждут. Ладно, говорю, Генке я шишку привезу — пусть и он ждет. Генка — это мой старший. Сын. Потом позвонил еще в одно место. В командировку, говорю, посылают — если к вечеру раскидаю — буду. Ладно, сказали, и жарко так в трубочку дохнули. Уф! Вообще-то ездить я люблю. Только так: портфель, деньги, сигареты — и один. Смотри в окошечко, успокаивайся, зависай. И вообще, мало ли что — поговорить, выпить, никто тебе ничего. Сам. Ладно… Сбегал в бухгалтерию, взял командировочные, там Ольга Лукьяновна, молодая еще, крепкая, пальцы в кольцах, посмеивается. Ну, ну, Александр Акимыч, ну, ну. Настроение, в общем, держится. В коридоре еще с главным врачом столкнулись, поздоровался, достойно так, не роняя, в полупоклон. Узнал, улыбнулся. Вообще-то он бульдог, хоть и интеллигентный на вид мужчина. Мертвая хватка. Схватит и по миллиметру в день — к горлу. Пока не задавит. И во всем: в карьере, женщинах, деньгах. Принцип. Недаром ему нашу больницу дали, клиническую, самую-самую в городе-то. С профессором у них сложные отношения. Клиника и больница. Монтекки и Капулетти — вечная вражда. Ну и они — два медведя в смежных комнатах. Однако на шефа мне обижаться грех. Я его ставленник, его идея. Заведующие должны быть молодыми. А степени потом, категории по ходу. Наполеоновские генералы. Нас пока человек шесть — Витя Малков в кардиохирургии, Сережа в гастре, и еще ребята, на вторых ролях, но вот-вот… Мне категорию уже дали, за год до срока, в знак, так сказать, поощрения, ну и кандидатскую помаленьку я с таким шефом сделаю. Сделаю, не беспокойтесь. Трудно? Ну что же. А кому легко? Сами знаете кому. На последней конференции главный хирург города Суркин так и сказал: «Молодые асы облбольницы!» Приятно, конечно. Ну, да все это так… второе. Главное — хорошо лечить. Раньше, помню, до ординатуры, когда в районе работал, у каждого больного сутки готов сидеть был — переживал. Все про него знал — мама, папа, теща, и все равно — помирали. Теперь, знаю: не в этом дело. Сделай — так, так, так. Максимум. И все будет. И без эмоции. И лиц не надо запоминать, понимаете? Я теперь, если, скажем, ребенок кричит, просто отключаюсь, не слышу. Тут уж так: или — или. Или лечить, или переживать. Ну, впрочем, ладно, не в том сейчас дело. Перевязываю я Быкова. Помыл, посушил — ранка чистая, хорошая, хорошо, говорю, Быков! Улыбается. Привезите, говорит, мне, Александр Акимыч, подарочек. Ладно, думаю, старый, может, и привезу. Это он о тоненьком катетере — мочу выводить. Быкова в районе оперировали. Теперь вот, кроме детского катетера, мочу никаким другим не выведешь. А не выведешь — в штаны стечет. Вообще-то Быков — не моя тема. У него пузырный свищ, а у меня кишечные. Но шеф сказал: возьми, мало ли что, пригодится, да и урологи рады были сбагрить, а они тоже меня выручают. Ну и взял. Случай, конечно, интересный, да и мужик хороший. Привезу, говорю, Быков, там, в районах, такое иногда бывает, чего и в Париже нет. Ага, засиял, привезите, руки забегали, пожалыста, Александр Акимыч, за вас старуха моя свечку поставит. И заплакал… Ладно, еду. Позвал своих орлов. Ты, распоряжаюсь, Коля, Быкова на себя возьмешь, а ты, Володя, консультации. Завтра буду. Продержитесь, не впервой. Кивают. Что им остается? Три года в районах по распределению, теперь вернулись на голое место — за квартиру они черта прооперируют и кивать будут. Ладно, говорю, пошел к профессору. Черная дверь. Дерматин. Табличка. Гладышев, Сколько мне еще? — раз, два, три — минимум десять лет до такой. Ну, ничего. Вытерпим. Захожу. Захожу — там Фомин. Он по сосудам, доцент. Кроме Фомина, еще двое, ассистенты. Я громко: извините! А шеф глянул так, улыбнулся (он редко улыбается) и рукой тем — минуточку!(!) Слушаю вас, Александр Акимыч, что случилось, Александр Акимыч? Объясняю Фомину и тем другим — извините, мол, но… Ничего, «те» улыбаются, ничего, понимаем, эксперимент, заведующие должны быть молодыми. Даже к окну отодвинулись, даже Фомин. Я говорю, Юрий Петрович, уезжаю, в район надо, перитонит, а насчет статьи, может, я потом, завтра, после оперативки? Качает головой — да, да, да… Глаза умные, виски седые — приятно смотреть. Если свищ, говорит, везите сюда, место найдем. Надо набирать. И готовьтесь — я записал ваш доклад на хирургическое общество. Через месяц. Готовьтесь. Всего хорошего. До свидания. И руку подал. Фомин даже сморщился. А ведь я этому самому Фомину еще на четвертом курсе факультетскую хирургию сдавал. Он не помнит, а я-то знаю. Тогда он тоже был вторым — у Костяного. Тот пересаживал кожу своим дерматомом и повязку свою придумал — черепицей. Ее так и называли: «костяная». Две книги об этом написал. Сестры при нем дежурить боялись. Потом уехал — что-то у него здесь сломалось. Но мужик был настырный. Прочитал как-то «Записки врача» Вересаева, и втемяшилось ему, что студенты кончают институт полными невеждами, что допускать их к больным нельзя, и решил он бороться с этим чем мог. Придет на занятия: «Ну, а здесь что? А здесь? Вы так думаете? Интересно! Зайдете ко мне через три дня и сдадите эту тему. Что? Вы не согласны с правилами обучения в вузе? Пожалуйста, я доведу ваше заявление до сведения декана». В общем, ясно. Ну и Фомин, номер второй, туда же… А я так не могу. Е с л и н а м е н я с м о т р я т к а к н а д у р а к а, и л и м н е к а ж е т с я, ч т о с м о т р я т, я т а к и м с е б я и ч у в с т в у ю. Фомин великодушничал: «Вы не бойтесь, за это я отметку не снижу. Просто хочется понять, до каких границ простирается ваше невежество!» В конце концов поставил мне трояк. Чуть я тогда со стипендии не полетел.