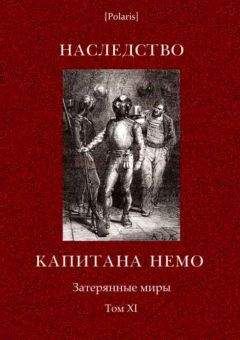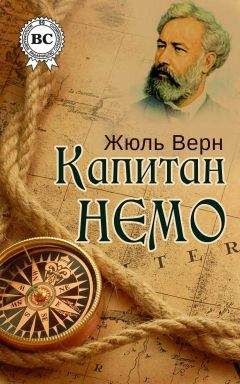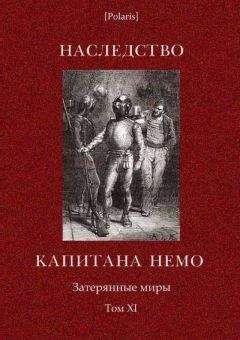Наиболее великодушные простили старику его проступок, говоря, кто знает, как мы поступим в его-то годы, не следовало, понятно, топить, но что тут особенного, что он такого сделал, нам бы дожить до его лет… Кое-кто даже ученого винил — неужели в целом квартале никого, кроме бедного старика, не нашел, нас бы попросил, вырастили бы ему щенят, куда старику в его-то годы…
Все верещали разом, всякий судил на свой лад, и в этой словесной пучине потонули и старик, и ученый, а вместо них всплыли мелкие личные горести и болести.
Тараторили о своем, наболевшем, выуживали затаенное на сердце, выносили на свет божий застарелые обиды и огорчения, то ли отводя душу, то ли утешая себя.
И все валили, разумеется, на превратную судьбу.
Среди гама и шума, сетований и споров старик побрел к калитке, незамеченным выбрался на улицу.
Он шел один.
Никто его не догнал, никто не окликнул.
Не торопясь миновал улочку, свернул на другую, сбегавшую к берегу Мтквари.
В конце улицы за тихим двором стояла на реке ветхая мельница, и крутилось мельничное колесо, шлепая воду лопастями и крутя жернов, заставляя его перемалывать зерно.
До бредущего старика донесся понятный ему теперь звук — словно что-то бултыхнулось в воду.
«Будто камень в океан…»
___________________
(1979 г.) Перевод Э. ДжалиашвилиСнегопад на дворе…
Я вижу из окна, как валит снег, как покрываются белыми хлопьями деревья, крыши, улица, люди. Снегопад начался недавно. Начался как-то сразу, неожиданно. Улице словно не хватает воздуха. Словно вытеснили его эти большие, снежные, величиной с крылья бабочки, пряди; они кружатся беспрестанно и застилают все вокруг.
— Снег, — слышу я голос жены из другой комнаты, — выгляни. — По голосу жены я догадываюсь, что она рада снегу, и говорю:
— Да, знаю.
— Давно не видела я такого снега.
— И я давно не видел…
Мохнатые снежинки липнут к стеклам окна и тут же тают. Снаружи стекла мокрые, испещрены каплями талого снега. Прохожие топчут снег, покрывший мостовую. Я не слышу, но чувствую, как хрустит под ногами прохожих свежий снег. Со двора на улицу выбегают — с салазками тепло закутанные, краснощекие дети и исчезают в вихре снежных хлопьев.
— Видел детей? — спрашивает жена.
— Видел, — говорю я.
В комнате тепло. Я сижу у окна, опершись локтем о письменный стол. В печке что-то глухо, потаенно гудит. Хорошо, что в комнате тепло, когда на дворе снег; сейчас, думается мне, тепло дороже всего.
А снег идет.
Улица становится похожей на рисунок, и кружение бесчисленных снежинок придает ему таинственность… Во всяком случае мне так кажется.
Я чувствую плечом прикосновение сначала руки, потом — теплого тела.
— И наши дети тоже будут вот так бегать в снегопад, — говорит мне жена.
— Конечно, — говорю я, — конечно, и они будут так бегать.
Пальцы жены вплетаются в мои волосы. Я чувствую, что она хочет мне что-то сказать. Я знаю, она улыбается и, полузакрыв глаза, смотрит вниз, на заснеженную улицу.
— Странно, — говорит жена, — сейчас я вспомнила нашу первую встречу. Снега такого не было, но зима… — повторяет она с особым выражением. — Помню, я спускалась по улице Бесики. Скользко было, я боялась упасть. Потом я заметила внизу ребят, они кучей стояли на углу и кидали снежками в девушек, вот точь-в-точь, как эти.
И правда, на углу нашей улицы крутились запорошенные снегом озорники, они галдели во всю глотку, быстро лепили снежки и бросали их через мостовую. Мне не было видно, в кого они старались попасть, но я слышал взвизгивание, смех и представлял себе, как девушки, испуганные и все-таки довольные, ловким движением тела уклоняясь от летящих снежков, пробегают под моим окном.
— Я не так боялась снежков, — говорит жена, — как боялась упасть — поскользнуться и грохнуться на виду у всех, когда в меня запустят снежком… Смотрю, как раз в это время ты идешь, я и попросила проводить меня. Конечно, очень неловко было просить совсем незнакомого человека… Но ты был так вежлив… Так добр…
Я слушаю и смотрю на улицу. На дворе по-прежнему метет. Низкую черепичную крышу всю занесло. Из закопченного дымохода клубами ползет серый дым, плывет вверх, рассеивается, бледнеет и исчезает в снежинках.
— Потом ты проводил меня до проспекта Руставели, — вспоминает жена, — и там мы очень вежливо распрощались… Могла ли я тогда подумать или хотя бы на минуту допустить, что…
Почему-то мне вспоминается Бакуриани… Не помню уже точно, когда это было, кажется, года два или три назад. А может быть, и все четыре года прошло с тех пор…
В Бакуриани, в парке на холмике, я встретил компанию ребят и девушек, тоже студентов, как и я сам. Со всеми ими я был более или менее знаком. Они как раз надумали пройтись на лыжах до Либани. Я присоединился к ним, и мы все вместе спустились с горки. Торопились. В Либани мы должны были успеть к поезду, чтобы в тот же вечер вернуться с ним обратно.
Никто из нас не умел даже как следует стоять на лыжах. Но вот мы уже выбрались на лыжню, тянувшуюся через нетронутые снега, будто рельсовая колея. Здесь наши лыжи заскользили сами собой, от нас не требовалось ни большой ловкости, ни мастерства.
Вытянувшись гуськом, мы шли по заснеженному сосновому лесу. Небо было чистым, солнце припекало. Снег, блестевший в его лучах, резал глаза. Тяжело нагруженные снегом сосны бежали навстречу и пропадали где-то позади.
Иногда мы останавливались и прислушивались к безмолвию леса. Неподалеку стучал по стволу дятел, разрывая величавую снежную тишину. Мы натирали снегом пылающие щеки, потом, закрыв глаза, опять подставляли солнцу наши лица, чтобы согреть их. Потом снова скользили между стволами и скрюченными ветвями деревьев.
За лесом садилось солнце. Фиолетовые тени скользили по снегу, постепенно увеличивались, бесконечно удлинялись и переплетались между собой.
Вдруг мы услышали гудок паровоза. Он раздался где-то совсем близко. Невольно все мы, как один, остановились, переглянулись, напрягли слух. Теперь паровоз прогудел еще ближе. Некоторые из нас сказали даже, что услышали стук колес. Я не слышал стука колес и потому стоял молча. Впервые уходил я так далеко на лыжах, и меня охватил внезапный страх. Стоило нам опоздать к поезду, и одному богу известно, где бы мы переночевали.
Мы отказались от мысли идти в Либани. Свернули к Сакочави. Думали, хоть туда успеем к поезду.
Всего нас было шестеро. Я шел пятым, след в след за идущим впереди. Каждый гудок паровоза разрывал мне сердце, он слышался то издалека, то совсем вблизи, со стороны Бакуриани, а то и Либани. Я бежал, испуганный и растерянный.
Вечерний сумрак несся за нами и постепенно настигал нас. Он тоже, как и мы, скользил по лесу. Прозрачный, он незаметно завладевал просветами между деревьев и беспощадно наступал на нас; он надвигался быстрее, чем мчались мы.
Сзади меня окликнули. Я обернулся и остановился: наш шестой, оказывается, упал и махал мне рукой. Я не помнил, кто из нас шел шестым, в темноте я видел только черное, шевелящееся пятно, упавший старался приподняться. По голосу я догадался, что это кто-то из девушек, хотя какое это имело значение, все равно я обязан был прийти на помощь.
С трудом я развернулся, лыжи мои разъехались в разные стороны. Я чуть было не упал. Потом встал на лыжню и быстро подъехал к упавшей. Шестой оказалась Лела, девушка из университета, мы с ней были немного знакомы. Она всегда доброжелательно здоровалась со мной, я, со своей стороны, все старался познакомиться с ней поближе, хотя и не мог понять, чем же привлекала меня эта смуглая худенькая девушка.
— Я думал, ты впереди, как ты очутилась здесь? — удивился я. Лела неловко лежала на снегу. Ноги, лыжи — все у нее переплелось между собой. Она пыталась упереться рукой в снег и привстать, но не могла: рука провалилась по самое плечо.
Лела улыбалась, хотя я заметил, что улыбка ее была горькой. Я с трудом поднял Лелу. Перчаткой стряхнул прилипший к ее лыжному костюму снег. Поставил девушку на лыжню, пропустил ее вперед. Но, едва сделав шаг, Лела тут же присела, схватилась рукой за щиколотку, и лицо ее исказилось от боли.
Ботинок с ее ноги я снял, не открепляя его от лыжи. Снял и носок. Ногу ее сперва как следует потянул, потом стал растирать. Бедная девушка кричала от боли, старалась вырвать ногу. Я снова надел Леле носок, вложил ее ногу в ботинок и завязал шнурки…
Осторожно двигались по склону. Некоторое время шли молча. Сперва я думал, что мы догоним ушедших вперед, но когда показался перекресток, где множество лыжных следов пересекалось и перепутывалось, я растерялся и встревоженно уставился на Лелу. Я понятия не имел, куда идти дальше. А Лела спокойно стояла и с любопытством оглядывала все вокруг. Она надеялась на меня. Наверно, она думала, что я знаю эти дороги, как тбилисские улицы…