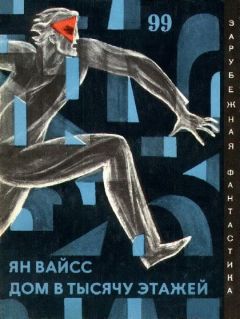Андрей Данилович взволнованно вышагнул на дорогу и схватил под уздцы лошадь.
— Постой-ка…
— Что такое? — перегнулся с козел Голубев.
— Своих не признаешь?
— Вроде да — знакомы… — неуверенно начал Голубев и тут узнал его. — Вот так встреча на дороге! Откуда? Каким ветром?
От председателя пахло солнцем, теплой пшеницей, а из плетеного кузовка брички, от устилавшего дно свежего сена поднимался тонкий медовый запах, такой волнующий, что Андрей Данилович задохнулся.
Вот они — запахи деревни! Закружилась голова, и он уцепился рукой за бричку.
— Довезешь до деревни?
— Садись. Место есть.
Шальные огоньки зажглись в глазах Андрея Даниловича. Он полез на козлы, легонько подталкивая плечом Голубева. Тот изумился:
— Куда? В бричку садись.
— Тихо ездишь, — нервно рассмеялся Андрей Данилович и, ощущая необычный прилив сил, сильнее подтолкнул его.
Голубев повалился спиной в кузовок, в упругое сено. Щелкнув вожжами по бокам лошади, Андрей Данилович прикрикнул:
— Но-о!
Лошадь мотнула головой и надбавила ходу. Тогда он привстал, свистнул и закрутил вожжами по воздуху.
— Пошла! Эге-ей!.. Пошла!
Всхрапнув, она напряглась. Мышцы у ней вздрогнули, и под гладкой кожей лошади прокатилась легкая волна.
— Рехнулся! В такую жару!.. — крикнул Голубев, хватая его за пиджак.
Андрей Данилович оттолкнул его локтем.
— Сиди! Э-ей!..
— А ну — надбавь! Ходу!
— Ходу! Ходу!
Тугой воздух толкнул в грудь. Сухая, твердая от долгого лета дорога загудела под копытами лошади; дрогнуло по сторонам поле с пшеницей — не понять, бричку ли это бросает на ухабах или поле волнуется, качает своими краями. Стучат копыта, стремительно крутятся, катятся колеса, звенят внизу об тарелки осей.
Звон и солнце вокруг.
— Давай еще! Хо-оду!
В волосах, раздувая их, шумит ветер. Упало на поле небо, гудящей струной натянулась дорога. Ну и простор вокруг! Словно сон из далекого детства… Дорога, поле, небо, брички и он сам все смешалось в сплошной вихрь.
— Хо-оду!
Опьяненный ездой, а еще больше ощущением безграничной свободы, он не сразу почувствовал, что вожжи у него вырывают из рук.
— Рехнулся. Ей-богу, рехнулся. В такую жару, — Голубев крепче забирал в кулак вожжи, натягивал их, и лошадь послушно сбавляла бег. Разбросав ноги по бричке, он оперся локтями о козлы, совсем отобрал у Андрея Даниловича вожжи и сказал, уже не так сердито, но веско: — Загнать захотел лошадь, да? Такая жарища… Ни пить ей не дать. Ничего. Ты ее, что ли, прогуливать будешь? У меня некому ее обхаживать — уборка же идет. Сам понимать должен.
Он окончательно перебрался на козлы.
С невысокого подъема открылась деревня.
Лошадь ступала мерно, бричка катила тихо, а Голубев равнодушно напевал вполголоса:
На горе крутой
Рос зеленый дуб…
Из подворотни первого дома выкатилась мохнатая собака, подбежала к лошади, завиляла хвостом, потом затявкала на Андрея Даниловича. Он сидел в кузовке, бросив руки в колени, плохо узнавал деревню и сердито косился на собаку. А она, все тявкая, трусила рядом с бричкой, подпрыгивала и щерилась, подымая верхнюю губу.
1
Дом стоял на взгорье у озера, пряча в черемухе два этажа своих и крутую железную крышу. Строился он давно и словно не сразу, а в два приема: низ у него был каменный, из красного кирпича старой мертвой кладки, уже кое-где повыщербленный, по углам поколотый, верх же — деревянный, из гладких белесых от солнца бревен, проложенных мхом. Деревья заслоняли окна, и в комнатах, на подоконниках, на стенах и на полу, лежали спутанные тени; весь день они двигались — буйные утром, к полудню таяли, а вечером входили с другой стороны и медленно густели, сливаясь с сумерками.
Если окна открывали, то в комнаты с тугим напором врывались ветки — черные вязкие ягоды можно было рвать, даже не высовываясь наружу.
Дом занимала метеостанция, но внизу пустовала большая комната, и летом в ней останавливались туристы. Приходили они к концу дня. Шли, растянувшись по рыжей от опавших сосновых иголок лесной дороге, устало шаркали ногами, горбились под тяжестью рюкзаков; ощутив прохладу озера, подтягивались, сбивались теснее и вдруг на весь лес рявкали припев к какой-нибудь веселой песне, звучавшей в тишине леса до странного громко, лихо. Валились на траву у дома, забрасывали ноги на рюкзаки и лежали так с полчаса, точно сушили на солнце подметки тяжелых ботинок. Потом ходили по лесу, пересвистывались, собирали валежник и разжигали костер. Сухие ветки в огне громко щелкали, будто стреляли, в воздух взлетал сноп ярких искр и празднично рассыпался в деревьях. Туристы хлопали по одежде ладошками, гасили искры, смеялись.
В такие вечера Тамара Сергеевна надевала свое лучшее платье и чаще обычного появлялась на улице.
Ходила она легко, как девушка.
У костра всегда сидел Генка, таращил на туристов глаза и сыпал вопросами. Отвечали ему охотно, а кто-нибудь обязательно спрашивал, кивнув в сторону Тамары Сергеевны:
— Кто это?
— Моя мама! Она заведующая метеостанцией, — громко отвечал Генка и гордо добавлял. — А папа мой был летчиком.
Отца он не помнил, а мать не любила о нем говорить, но уборщица Аверьяновна, высокая старуха, ходившая в темной обвислой юбке, вечно путавшейся в ее худых коленках, однажды так ответила на его вопрос: «Летун он… Летчик в общем». Тогда Генка решил: отец его разбился на самолете, поэтому и тяжело матери о нем вспоминать.
От пламени в стеклах дома рдели огненные блики. Прибирая у себя в комнате на ночь волосы, Тамара Сергеевна любовалась причудливыми отблесками костра и почему-то вспоминала слова Аверьяновны, пытавшейся научить ее уму-разуму: «Одна вековать будешь — на корню засохнешь». В последнее время она и верно чувствовала себя одиноко: Генка за годы жизни у озера вырос, у него появились свои заботы, он стеснялся ее ласк, а она только им и жила. Да еще работой. И все же, думалось ей, Аверьяновна слишком уж просто смотрит на жизнь. Запрокинув голову, Тамара Сергеевна принималась с упорством причесываться. Гребень потрескивал, по зубцам бродили голубоватые искры. Волосы у нее были тяжелые, с золотым отливом.
Туристы уходили поутру. Через месяц, два, а то и на другое лето только приходили новые и опять разжигали костер. После их ухода в костре долго теплились угли.
В это лето туристов еще не было, но Генка привел из леса незнакомого мужчину и небрежно, по-хозяйски, сказал:
— Мама, этот дяденька поживет у нас.
Тамара Сергеевна стояла у двери. Она одернула старое ситцевое платье, поправила волосы. Мужчина приподнял над головой соломенную шляпу и подержал ее в воздухе.
— Бухалов… Юрий Петрович.
Мужчина был высок, узок в бедрах. Под густым наплывом черных бровей поигрывали большие дерзкие глаза. Ковбойку с закатанными выше локтей рукавами он расстегнул до пояса — открытая грудь глянцево лоснилась от пота и словно чуть-чуть дымилась.
— Не знаю, право… Куда вас поместить? — она неуверенно глянула в темные сени. — Вы лучше в деревню сходите. Там и магазин рядом.
— Так-таки не найдется свободного уголка?
В голосе его, низком, сочном, угадывалась потаенная усмешка, Тамара Сергеевна дернула плечом.
— Ах, да для вас же лучше в деревне.
— Но мама! — возмутился Генка.
— Не кипятись, старик, — остановил его Юрий Петрович и похлопал ладонью по карманам брюк. — У меня тут талисман есть.
Вынул кожаный бумажник, неторопливо извлек из него белый квадратик и протянул Тамаре Сергеевне. Она взяла его двумя пальцами — недоуменно и осторожно. Развернула и удивилась, увидев бумажную салфетку из столовой и расплывшиеся на ней буквы:
«Уважаемая Тамара Сергеевна! Слезно молю: приютите моего друга, архитектора Бухалова. Всегда к услугам И. Семенов».
Писал начальник областного гидрометеорологического бюро. Она сложила записку по старым сгибам и сказала задумчиво:
— Коль так…
2
После уборки в большой комнате прело пахло сырыми сосновыми половицами, и это обрадовало Юрия Петровича, умилило: показалось на миг, что его ждали и мыли пол, протирали на окнах стекла. Он прошелся, осматриваясь, — шаги мягко отдавались в углах.
— Старик, это, конечно, не люкс, — сказал Юрий Петрович и открыл окно. — Но красота, красота-то какая! И воздух… А стол пусть стоит здесь, у окна.
Сильно крутанул стол на новое место, потом развязал рюкзак и стал выкладывать вещи: бритвенный прибор, зубную щетку, зеркало, флакон с одеколоном. Вынул помятый пиджак, встряхнул за плечи, расправляя складки, и повесил на спинку стула. Генка стоял рядом и смотрел, как он устраивается. Из длинной картонной коробки Юрий Петрович достал рулон ватмана. Развертываясь, ватман жестянно загремел, из рулона выскользнули плотные листочки с рисунками, беспорядочно рассыпались по столу. Изображения на них непонятно перемешались: угадывалось высокое здание с прозрачными — почти одно стекло — стенами… Мужчина в плаще и шляпе одиноко стоял под большими часами… Люди прощально махали вслед поездам, уходящим за невидимые семафоры.