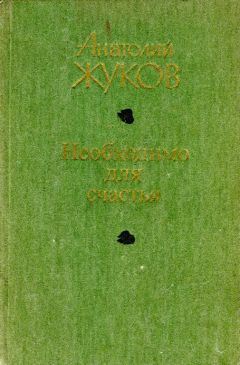Он давно уже успокоился и легко перешел на прерванный в обед разговор о транзисторном приемнике и перпетуум-мобиле и опять увлекся, пообещав доказать Андрею Ильичу возможность постройки вечного двигателя.
Андрей Ильич слушал его, подкладывая в костер сухие сучья, и улыбался. Вот с таким же наслаждением он слушал доклад прославленного ученого на конгрессе. Вещи несопоставимые, разумеется, но вот же не знаешь, что такой пустяк доставит тебе радость и, следовательно, окажется значительным.
Потом они сидели в шалаше на земляной, застеленной сеном скамейке и хлебали деревянными ложками из ведра дымящуюся уху. Уха была ароматной, с дымом костра, с душистым укропом, а тут еще примешивались запахи трав, цветов, свежесть лесного и озерного воздуха. И во всем этом: в еде, и в чистом воздухе, и в запахах — была добротность, прочность здоровой уверенной жизни.
После ужина Петька посыпал крупную рыбу солью и достал свою смятую тетрадь.
— Вот чертежи моего двигателя, посмотрите, пока светло.
Андрей Ильич взял тетрадь и поглядел простенькую схему и подклеенный к ней чертеж какого-то узла.
— Перпетуум-мобиле, — сказал Петька с гордостью. — Основой его я сделал реактор на трансуранах, топливом будет сто второй элемент.
— Так ведь он еще не открыт, — сказал Андрей Ильич.
— Откроют, — заверил Петька. — В Дубне наши ученые, — вот только забыл фамилии, радиохимика одного помню, Ермаков, — получили изотоп сто второго, но живет он пока недолго, всего несколько секунд.
— А тебе сколько надо?
— У меня рассчитано на четыреста лет.
— Хм, на четыреста. Но ведь это не вечность.
— Я знаю, но это только начальный цикл, а потом сто второй элемент превращается в новый, его тоже еще не открыли, а этот новый — в фотон. Вот дальше я пока не знаю, но я думаю, что фотон вечный. Ведь свет-то не пропадает и живет только в движении, а в покое масса фотона ничего не весит — нуль. Это один академик в журнале писал. Значит, фотон вечный, так ведь?
— Вряд ли, — сказал Андрей Ильич серьезно. — Если масса фотона равна нулю, следовательно, ее могли измерить в состоянии покоя.
— Э-э, — засмеялся Петька, — а вы так сразу и поверили! Вы что, не слышали закона сохранения и превращения материи? Ничто не умирает и не пропадает, а только превращается в новое — вот!
Андрей Ильич засмеялся и дурашливо покрутил головой. Он никак не мог освободиться от событий второй половины дня и вернуться к прежнему состоянию, и это его радовало и умиляло. Он поймал тройку большущих сазанов, увидел Нежданку и пережил какую-то радостную и бодрящую тревогу за Петьку, который мог утонуть, а тут еще ароматная уха, дискуссия о вечном двигателе и разных больших вещах, которые любит Петька. Черт знает как хорошо, сказка какая-то, Шехерезада!
Его забавляла и радовала Петькина уверенность, веселила захватанная тетрадка с корявыми чертежами (вот такая и у него была) и эти его смешные рассуждения о транзисторах, фотонах, и все, и все. Или он уже успел отдохнуть за эту неделю, или в нем совершилось что-то подготавливаемое годами, но приходила легкость и уверенность, и эта уверенность была где-то вне его, она жила независимо от его усталости и сейчас стояла рядом и поила его. Вот так было в детстве и юности, и потом наступали такие минуты уверенности и безоглядности, но все это было не только с ним, все это начиналось еще до него, началось с веры в вечность, потом в такой двигатель, который он тоже собирался сделать, в исследования и муки, которые никогда не прерывались со смертью одного, но подхватывались другими, и какая-то вечная непонятная сила заставляла их — и других, и третьих, и четвертых, и многих — работать, идти, лететь, стремительно и безостановочно, как фотон, который не существует в покое. Вечная движущая сила эта была в земле и в душистой траве, в воздухе и в воде, в закатном разбрызганном солнце и розовых облаках, в Нежданке, защищенной человеком, и в горячих глазах Петьки. И была она незатухающей и постоянной, она не могла не действовать, потому что ею жил, пульсируя, неустанный мозг Андрея Ильича, потому что она требовала вечного двигателя от беспокойного наивного Петьки, потому что масса фотона в покое равна нулю.
1966 г.
КОЛОСКИ НЕСПЕЛЫЕ, НЕОБМОЛОЧЕННЫЕ…
Может быть, на нее не обратили бы особого внимания, потому что в те годы по селам много ходило нищих-побирушек — и слабых умом, и не слабых, но старых и немощных телом, и увечных, и разных убогих людей, которые не имели своего угла с хлебом. Тогда и здоровые не все его имели. Война уничтожила сытные углы, разрушила обжитые места, разметала людей по всей большой неприютной земле.
И эта тронутая умом нищенка, не помня рода своего и племени, бродила от села к селу и кормилась чем бог пошлет и что подадут добрые люди. Бог посылал редко, а добрые люди сами недоедали и оттого стали сердитыми и часто недобрыми.
Она была молодая и, пожалуй, красивая, если бы с ее лица стереть застывшую бессмысленную улыбку, а большие глаза, серые, с дымной поволокой, заставить глядеть не внутрь себя, что-то там высматривая и прислушиваясь, а на людей, на мир, который для нее будто не существовал. Наверно, поэтому ее красота не привлекала, а настораживала, как настораживает не по заслугам почет, не по чину звание, не по Сеньке шапка.
Впрочем, на руках у нее был ребенок двух примерно лет, сероглазая, как мать, кудрявая девочка, белокурая и чумазая, завернутая в старую солдатскую шинель с красными петлицами.
Шинель эту нищенке оставил человек, которого ее красота не насторожила, а привлекла, как животного привлекает легкий и свежий корм. Может быть, он и не воспользовался бы этим, но нищенка что-то искала той первой военной зимой и сама пришла к нему, а он был голоден и решил, что она искала не кого-то другого, а именно его, солдата с красными петлицами, от которых нищенка не отводила глаз и долго вспоминала что-то, но так и не вспомнила, и пришлось отдать ей шинель, потому что одни петлицы, когда он хотел отпороть их, думая, что она помешалась на красном цвете, она взять не соглашалась. А через девять месяцев она родила за дальним незнакомым селом (они все для нее были дальними и незнакомыми) девочку, обмыла ее в полевом пруду, где поили скотину, и завернула в эту шинель.
Она была просторной и длинной, шинель с красными петлицами, и в холодное зимнее время нищенка надевала ее, закалывала булавкой полы внизу, чтобы студеный ветер не хватал за ноги в рваных чулках и галошах, подвязанных веревочками, а сероглазую девочку прятала на груди и прикрывала все той же просторной шинелью. Летом она надевала ее только в ненастное время, чтобы прикрыться от дождя, и длинные полы поднимала, укрывая девчонку, которая уже могла держаться за шею, а где была ровная и не грязная дорога, просилась с рук на землю и шла своими ногами.
Так они вошли и в Малиновку, небольшое степное село, где не было ни малины, ни других кустов и деревьев, только дома под соломенными крышами да позади домов кучи навоза, которые бабы поливали водой из пруда, собираясь делать кизяки для топки зимой. Время было позднее, обеденное, но из-за дождя, прошедшего утром, все малиновцы занимались домашними, а не колхозными делами: и бабы, и старики, и дети. Из мужиков в селе находился один Дементий-матрос, который воевал на подводной лодке, а потом от контузии сделался нервным, и его отпустили домой и выбрали здесь председателем колхоза и сельского Совета — полной властью, следовательно.
Дементий тоже делал за конюшней кизяк. Для сельсовета. Он был одинокий и проживал в своем кабинете, который называл кубриком, мать его умерла, а дом матери он отдал многодетной вдове Матрене Шишовой, по прозвищу Коза. В Малиновке у всех были прозвища.
У дома Матрены Козы и случилась печальная с нищенкой история. В других домах ей не подавали, бабы торопливо отворачивались, завидя ее, а те, что не успели отвернуться, сочувственно отвечали: «Бог подаст» — и в свое оправдание бормотали, что ребятишек вон целая орава и все жрать каждый день просят, смерти на них, окаянных, нету. Упоминание о смерти пугало нищенку, и она с улыбкой, которая не сходила при испуге, вела девочку к другому дому.
Так они очутились перед низкими открытыми окнами Матрены Козы. У нее было своих четверо козлят и ожидался пятый — от Дементия-матроса, с которым она рассчитывалась за подаренный дом. Дементий долго крепился, но потом, одинокий человек, не устоял, так как Матрена была баба молодая, бойкая и не хотела оставаться у мужика в долгу.
— Дайте хлебца, пожалуйста, — сказала нищенка в шинели, протягивая к окнам девочку, которая опять попросилась на руки.
Матрена высунулась из окошка, чтобы сказать привычное: «Бог подаст», но, встретив глубокий и пустой, как заброшенный колодец, взгляд красивой нищенки, на минуту смутилась. Отсутствующий взгляд обидел ее, но тут она увидела девочку и умилилась: