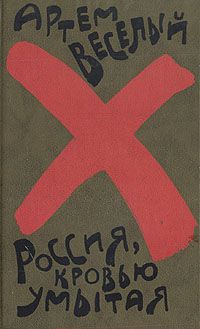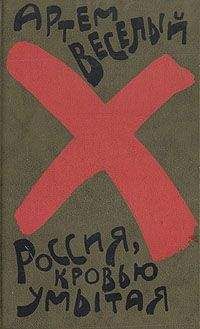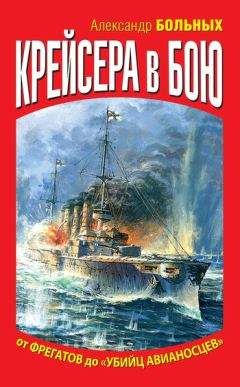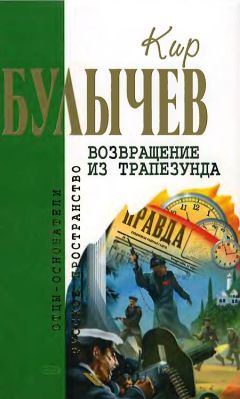— Ну?
— Вот и ну… Кто знает, как оно повернется? Тут тебе свобода, а тут вдруг восстанет против народа царь?
— Полудурок… Нашел над чем голову ломать! Езжай и паши.
— А полковник пан Олтаржевский? Ну-ка нагрянет? Ведь он меня не масленого, не вареного съест. Такой усатый да крикливый. Сколько разов во сне, проклятый, снился, аж тебя затрясет всего и в холод кинет. Такой он, господь с ним…
— С него уж поди-ка с самого где-нибудь наши товарищи шкуру спустили…
— Дай бы, господи.
— И велика делянка?
— Земли там уйма… Панской восемьсот десятин, войсковой сколько-то тысяч. Работай, не ленись.
— Та-а-ак, дядя лапоть, — протянул Максим. — А я за греблю думаю удариться… В Горькой балке, говорят, паев много гулящих лежит.
— И хочется тебе за десять верст лошадь гонять? — Кум Микола сдвинул шапку с запотевшего лба и, повременив, с важностью сказал: — Я тебе уважу, я такой человек, я для свояка хоть пополам, хоть надвое разорвусь…. Лошаденка у тебя одна и прилад никудышный, а у меня всё-таки пара волов, они, прокляты, тугящи… Гоняй со мной?.. Подымем супрягой десятины по четыре и с лепешками будем. А?..
Максим пораздумал немного и чуть усмехнулся.
— Что ж, кум, за мной дело не станет.
— Ооо, и поедем… После рассчитаемся: ну, поставишь магарыч, ну и мне когда-нибудь добро сделаешь. Я такой человек, я… Ээх, шагай, чубарые.
Свернули на проселок.
Нагая степь.
По распаханным полосам катились черные земляные волны. Горячей силой весенних соков был напоен каждый ком земли. Важно расхаживал грач, кося умным глазом и выклевывая из борозды жирных червей. Свист суслика, крики погонычей, неспешный шаг вола.
…Максим с кумом дали три больших круга и остановились покурить. Со стороны маячившего на возвышенном месте хутора подъехал верхом рыжеусый, в собачьем сбитом на затылок малахае.
— Вы чего? — спросил он.
— А ничего…
— Чью землю ковыряете?
— Богову.
— В нашем юрте боговой нет. То земля казачьего полковника Олтаржевского, а как он сам на службе померши, то земля стала нашей, казачьей. Запрягайте и ссыпайтесь отсюда, да не оглядывайтесь, коли живы быть хотите… — Сам говорит, а глазами, как шильями, колет.
— Господин любезный, мы за нее аренду платили.
— Я тебе покажу аренду, бесова душа… Я с тебя, бугай, собью рога… Всю степь заставлю рылом перепахать.
— А ну, заставь! — шагнул Максим навстречу.
Казак некоторое время молча постоял на меже и угнал к хутору. Однако скоро он вернулся уже в сопровождении еще пятерых и, наезжая на Максима конем, скомандовал:
— Поди прочь!
— Легче!
— Разнесу, косопузые! — и стегнул Максима плетью. Максим схватил с повозки приготовленную оглоблю и, размахивая ею, пошел в атаку.
Кум Микола бросился было бежать, голося:
— Ратуйте, православные… За наше добро да нас же по соплям бьют.
Но двое, догнав, начали поливать его плетями и скоро спустили с его плеч посеченную в клочья рубаху.
Отовсюду скакали верхами и бежали, на ходу сбрасывая кожухи и засучивая рукава.
— Бей!
— Злыдни!
— Заплюем, засморкаем!
Максим сдернул с коня за ногу рыжеусого и принялся топтать его коваными сапогами, а кум Микола сидел в промытой весенними дождями межевой канаве и, руками прикрывая глаза от плетей, хрипел:
— Не покорюсь!.. Не покорюсь!
Мужиков случилось больше. Казаки ускакали за подмогой.
В станице митинг, и митинг снова кончился побоищем, после которого в станичном правлении старики принялись пороть молодых казаков, а в доме Григорова далеко за полночь гудели голоса: в ту ночь в станице был создан ревком.
На пашню выехали вооруженные винтовками, бомбами, дробовиками — у кого что нашлось.
В России революция, вся-то Расеюшка
огнем взялась да кровью подплыла.
Офицер Корниловского полка Николай Кулагин вторую неделю лежал пластом. Под головой — вещевой мешок с наганом и бельем, под боком — винтовка. Укрыт он был волглой еще после фронта кавалерийской шинелью. Греться приходилось кипятком и — привитая армией иллюзия — куревом. Грязная, плохо отапливаемая палата была переполнена ранеными и обмороженными в последних боях за Новочеркасском. Из щелей непромазанных рам тянуло гнилой февральской сыростью. Койка Кулагина стояла у окна. Приподнявшись на локтях, он подолгу смотрел на улицу, потом откидывался на сбитую в блин соломенную подушку и в полузабытьи закрывал глаза. Вялые, в черных облупинах уши его были вздуты, а обмороженные, мокнущие под бинтом ноги воняли тошнотной вонью. Ломота в костях не давала покоя ни днем, ни ночью.
Ростов доплясывал последние пляски. В городской думе кадеты, демократы и казачьи генералы договаривали последние речи. Вечерние улицы были полны офицерами, беззаботными чистяками и породистыми, благородных кровей, щеголихами. В ресторанах гуляли денежные воротилы и столичная знать. Меж ними шныряли политические деляги. Вертелись тут, козыряя громкими именами, и члены разогнанной Государственной думы, и разжалованные министры, и заправилы Временного правительства, и прославленные террористы, и сиятельные владыки разгромленных революцией департаментов, и мелкопоместные дворяне, и сановное духовенство, и шулера закрытых игорных притонов. Все они набежали на Дон после Октябрьского переворота, намереваясь отсидеться до поры до времени за казачьими пиками. Знатоки смрадных тайн охранки и провидцы чудес господних, умудренные в науках профессора и социалисты, до тонкости изучившие теории всяческих движений и брожений, наперебой предсказывали близкую и неизбежную гибель большевиков. На залитых вином столах писались декларации будущих правительств, вырабатывались грандиозные планы восстановления России, распределялись министерские портфели, заслуженные генералы получали назначения губернаторов в области, которые только еще намечались к очищению от мятежников. Тем временем не оправдавшие надежд казачьи полки расходились по хуторам и станицам; с севера — в грохоте пушек, в митинговых криках, с плясками и свистом — накатывались отряды фронтовиков, матросов и рабочие дружины. На веселящийся город напускалась гроза грозная.
Лазарет охраняли гимназисты под начальством дряхлого полковника. Старик, сменяя караулы, обходил палаты и разносил утешительные вести. Ему хотя и не верили, но прихода его ждали с нетерпением.
Однажды рано поутру лазаретники были разбужены пушечной пальбой. Кто поздоровее, собрался было уже задавать лататы, когда в дверях появился полковник. Заложив руку за борт потертого мундира, он раздельно и торжественно произнес:
— Господа, это самое, поздравляю.
Тяжелораненые перестали стонать. Сосед Николая Кулагина, усатый фельдфебель Крылов, замер с недочищенным сапогом на одной руке и со щеткой в другой.
— Свежие новости, господа… На таганрогском и черкасском участках фронта красные разбиты, это самое, вдребезги. Да, вдребезги. Захвачены в плен два полка противника в полном составе…
Все поддались радостному настроению. Одни сели в постелях, другие спрыгнули с коек и окружили вестника.
— Точны ли сведенья, господин полковник?
— Почему молчат газеты?
— Но… стрельба под самым городом?
— Экое дело стрельба, — хитро улыбнулся полковник. — Восстали, батенька мой, станицы нижних округов и пробиваются на соединение с нашими частями… По городу дезертиров ловим, бандитов бьем, вот вам и стрельба, хе-хе… Верьте мне, старику, я, это самое, приукрашивать не стану. Да, не стану. — Шаркая стоптанными сапогами, он прошел в соседнюю палату.
— Ага! — заговорил, прыгая на костылях, подпоручик Лебедев. — А я что вчера говорил?
— Умерьте пыл, подпоручик, — угрюмо сказал нагонявший на всех уныние своей мрачностью жандармский ротмистр Топтыгин, — ликовать нам по меньшей мере преждевременно.
— Почему, позвольте узнать?
— Анархия, не забывайте, молодой человек, вовлекла в свой дьявольский круговорот миллионы потерявших человеческий образ людей, а идея национального освобождения, как бы она ни была прекрасна…
Лебедев, подхватив костыли, подсел к ротмистру и с жаром принялся развивать перед ним свои взгляды на спасение родины. Топтыгин слушал его, покручивая пушистый ус, и лишь изредка ввертывал краткие, полные житейской мудрости замечания, от которых палата покатывалась с хохоту.
За общим столом, отодвинув игральную доску, спорили заядлые шахматисты — пехотный прапорщик Сагайдаров и завитой, надушенный корнет Поплавский. Все уже знали, что прапорщик — убежденный эсер. Поплавский и играл-то с ним только потому, что не было другого партнера. Кроме того, ущемляя прапорщичье самолюбие, корнет развлекался. За неделю беспрерывных сражений Сагайдаров не взял ни одной партии, хотя победа, как ему казалось, не раз клонилась на его сторону.