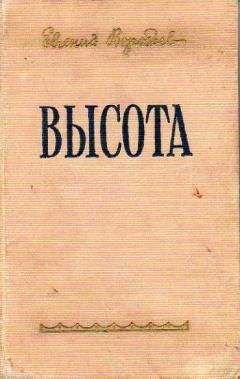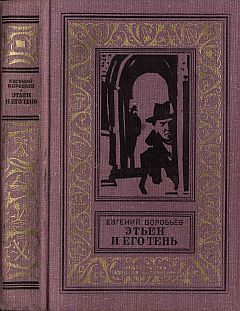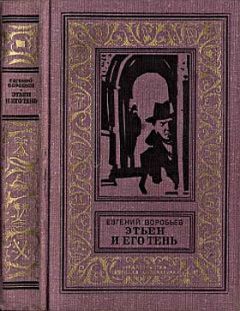Летчика снесло в сторону от аэродрома, за фольварк. Незабудка побежала в том направлении садами и огородами. Бежать было трудно, мешала санитарная сумка на боку, но Незабудка все-таки бежала во весь дух, не спуская глаз с дымного облачка в небе. Она перелезала через проволочные ограды и каменные заборы, форсировала канавы с талой водой, продиралась сквозь ягодники и фруктовые деревья с номерками на проволочке.
Следом за ней из обитаемого «юнкерса» сбежал по лесенке Аким Акимович. Но куда ему в преклонные годы поспеть за такой быстроногой! Аким Акимович замешкался, затоптался у первой же высокой изгороди. Только потерял время и заспешил оттуда в обход, по дороге, мимо желтой бензиновой колонки.
Незабудка примчалась на помощь первой.
Летчик был в беспамятстве.
Дымилась меховая куртка, тлели шлем и унты, на комбинезоне плясали язычки пламени, едва видимые в сиянии яркого весеннего утра.
Та часть лица, которую не закрывали шлем и очки, была сильно обожжена.
Незабудка сорвала очки, шлем с ларингофоном, торопливо расстегнула обугленный меховой воротник. Но снять горящий комбинезон оказалось не просто: запуталась в лямках и стропах парашюта. Она решительно перерезала их кинжалом, сняла пояс с кобурой и большим летчицким планшетом, раздернула молнии на комбинезоне, расстегнула пуговицы, крючки, пыталась стянуть тлеющие унты.
Сейчас каждое мгновенье дорого, но как медленно она все делает! Тлеет вата, дымится ткань, слышится запах горелого мяса.
Незабудка по свойству характера заторопилась всю вину взвалить на себя. Она проклинала себя, неуклюжую, криворукую, хотя на самом деле действовала весьма расторопно.
Она расстегивала, снимала, сдирала горящую одежду, выдирала клочья горящей ваты, меха, обжигая при этом руки, исступленно рвала трескучий шелк, срывала белье — до чего же крепкая эта бязь! Но сама еще не чувствовала боли.
— Сестренка... — прошептал летчик, очнувшись.
Она вытерла сажу с его лба и принялась осторожно смазывать мазью обожженный подбородок, нос и скулы, а потом забинтовала все лицо. Остались три щелочки — глаза и рот.
Летчик широко раскрыл рот, словно ему не хватало воздуха, — так было легче удержать стоны.
Но вот к месту приземления прибежали доброхоты. Незабудка распорядилась обрезать все стропы парашюта и завернуть полуголого летчика в шелк, да поплотнее. А то и простыть недолго, день ветреный, недаром парашют так сильно снесло в сторону.
Бойцы понесли летчика, запеленатого в парашют, команду над ними принял Аким Акимович,
А Незабудка шла следом, держа перед собой обожженные руки, с перекошенным от боли лицом, удерживаясь от стонов, — она тоже широко раскрывала рот, как это делал летчик.
Надо бы ей поосторожнее обращаться с огнем, но до осторожности ли было — огонь жег живое тело, пусть даже бесчувственное!
Позже она несколько часов не отходила от спасенного ею летчика, или, как он сам выразился, «от потушенного». Он лежал, по-прежнему закутанный в парашют, на пружинном матраце, поставленном прямо на снег, а сверху его укрыли трофейными одеялами и тулупом. Она сидела возле летчика на снарядном ящике. Руки забинтованы — она не удержала бы сейчас фляжку. Пальцы ослабли.
Она старалась не морщиться от боли, а тем более не стонать, не охать, хотя руки болели нестерпимо. Аким Акимович смазал руки мазью от ожогов и перебинтовал; она увидела, что с пальцев сошла кожа.
Чтобы самой забыть о боли и развлечь «потушенного», она принялась напевать популярную среди летчиков песню на мотив шахтерской «Прощай, Маруся ламповая».
Моторы пламенем объяты,
Кабину лижут языки,
Судьбы я вызов принимаю,
С ее пожатием руки...
Летчик всю песню прослушал молча, недвижимо, но потом зашевелился под одеялом И тяжело вздохнул.
— Повезет, однако, тому, кто найдет себе такую невесту, — сказал летчик, и его глаза — смотровые щели — заблестели.
— Это еще как сказать, — фыркнула Незабудка. — Во-первых, вы не знаете про особый характер невесты. А во-вторых, есть еще причина, по которой меня нельзя считать хорошей невестой.
— Какая же причина?
— А такая причина, что я уже определилась в хорошие жены. — Она счастливо засмеялась. — Если санитарный самолет задержится, я вас с мужем познакомлю. Он сейчас чинит связь. Снова пополз к левому соседу. Хуже нет как стоять на стыке двух полков!
— А не познакомимся — передайте, что я ему завидую...
— В уставе караульной службы сказано, что зависть — нехорошее чувство, — снова фыркнула Незабудка.
— Смотря как человек завидует. Моя зависть бескорыстная, — сказал летчик раздумчиво и серьезно. — Если завидую вашему мужу, значит, верю, что он счастлив. А разве он может быть счастлив в одиночку, без вас? Значит, когда я завидую вашему мужу, то желаю счастья вам обоим. И пусть ваше чувство согревает тех, кому счастья не хватило, когда господь бог или, может быть, старшина эскадрильи делил счастье между всеми нами...
Летчик прикрыл глаза и надолго замолчал.
Незабудке очень хотелось поговорить сейчас на сердечные темы, рассказать про Павла, но у нее хватило такта промолчать: почувствовала в словах летчика затаенную боль. Счастливый человек часто бывает эгоистичен, глух к чужому горю, и Незабудка была довольна тем, что не поддалась соблазну.
Еще до полудня за пострадавшим пришел санитарный самолет на лыжах. Он произвел посадку на этом же аэродроме, на его околице, не загроможденной «Юнкерсами-52», едва припорошенной снегом. Каким крошкой казался У-2 по соседству с трехмоторными верзилами: под крылом такого вот «юнкерса» и лежал обожженный летчик в ожидании эвакуации.
Незабудка позаботилась о том, чтобы он не замерз; его закутали в просторный тулуп, обули в валенки, надели ушанку. Она проводила «потушенного» до самолета. Над лыжами к У-2 были приторочены фанерные люльки для перевозки раненых. В одну люльку уложат погорельца, но и другая не должна пустовать: полагается ее загрузить чем-нибудь для равновесия, иначе могут быть неприятности при посадке.
Об этом сообщил прилетевший «огородник», низкорослый парень шумливого нрава. Он подтащил ящики со снарядными стаканами, валявшиеся рядом, и уже собрался их погрузить, но в последний момент передумал и подмигнул Незабудке:
— А может, медперсонал имеет желание прокатиться? И люлька плацкартная. Вот бы наши орлы обрадовались!
— Разговорчики! — грозно крикнул обожженный летчик, от возмущения он даже приподнялся на локтях. — Отставить!
— По тебе судить, так не орлы у вас там, а мокрые курицы, — презрительно сказала Незабудка. — Зачем ты только на эти ящики с гильзами позарился? Самый лучший балласт, как я теперь понимаю, — твои тяжелые остроты. Взял бы вот и загрузил их во вторую люльку. И лыжам равновесие, и голове твоей облегчение...
Низенький «огородник» уже не рад был, что задел этого старшего сержанта медицинской службы. Смазливая, а какая сварливая! Не девка, а моток колючей проволоки!
Между тем обожженного летчика бережно уложили в фанерную люльку, а замолчавший «огородник», растерянно почесывая затылок, залез к себе в кабину.
Незабудка дружески попрощалась со своим пациентом. Кто бы мог подумать, глядя на эту симпатичную, ласковую девушку, что несколько минут назад она была так резка.
Им обоим очень не хватало последнего рукопожатия. Он неуклюже погладил ее по плечу, она кивнула в знак ответной приязни, держа перед собой забинтованные руки, оберегая их от нечаянного прикосновения.
Спустя три недели линия фронта вплотную приблизилась к Кенигсбергу. Командный пункт батальона обосновался на фольварке Викбольд — уцелел помещичий дом и все надворные постройки.
Незабудка мобилизовала для своего перевязочного пункта бетонный подвал под кухней. Руки у нее были еще в бинтах, но заживление шло быстро, и тонкая новая кожа обтянула пальцы. Ее много дней подряд кормили с ложки. Тальянов или Аким Акимович разували и обували ее, раздевали на ночь, когда боевая обстановка позволяла, а утром одевали, умывали. Тальянов научился причесывать Незабудку гребнем, даже заслужил ее похвалу: «После войны можешь смело идти в дамские парикмахеры. Отбоя от клиентов не будет!»
Незабудка притерпелась к тому, что стала такой беспомощной, но страдала из-за того, что три недели не могла оказывать первую помощь раненым.
Когда устраивались на непрочном фронтовом новоселье, кто-то по давней, уже забытой привычке или из тоски по мирному быту повернул выключатель — и в подвале зажглось электричество! Если бы не просто повернули безобидный выключатель, а выдернули чеку мины, шум и переполох были бы не больше.