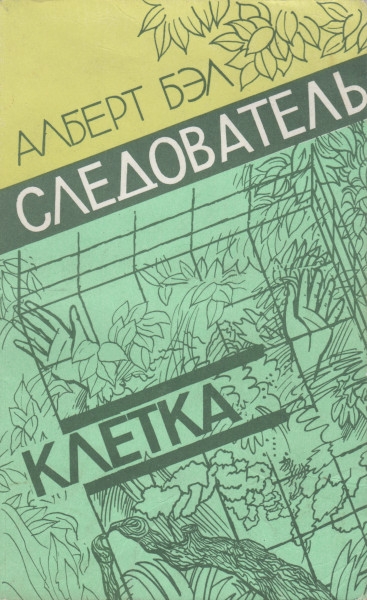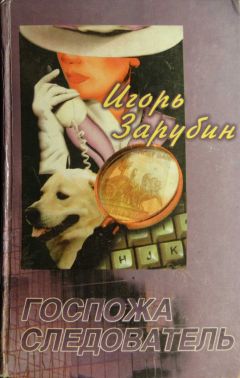Я сказал, наверное, это был снаряд, но папа ответил, что снаряд бы его разорвал на куски.
— Разрывной пулей?
Если бы я был министром, я бы запретил стрелять в людей разрывными пулями. Разрывными пулями я бы разрешал стрелять только крокодилов, потому что крокодилы толстокожие, простая пуля не возьмет. Крокодил такой же сильный, как танк. Я спросил папу, почему он не пошел в танкисты, тогда б никакие пули ему были не страшны. Но папа рассмеялся и сказал, давай-ка поговорим про автомобили. Автомобиль — это танк мирного времени. Правда, папа так не сказал, хотя папа сказал, что это случилось весной, но, по моему, осенью воевать приятней. Потому, что сухо.
Фанния
Он седел прямо на глазах. Сначала посветлели виски, потом затылок и наконец засеребрилась вся голова. Если человек седеет внешне, разве может он не поседеть в душе? Видимо, приступы возвращались, по ночам Рудольф кричал и метался, но проснуться не мог, и в ту первую страшную ночь я не знала, что делать, я крепко обняла его, пыталась уложить силой и кричала: «Рудис, Рудис!», а он по-прежнему метался, оттолкнул меня и только тогда проснулся. Потом я догадалась, как поступать в таких случаях, и едва он вскрикивал, я целовала его и шептала: «Проснись, милый, проснись, хороший», — и он просыпался, и крик затухал у него в груди. Я просила его показаться врачу, но из Ленинграда как раз прислали новую аппаратуру, и у него совершенно не было времени.
— Какая битва?
Припадок был острый и, как всегда, внезапный. Нужно было действовать, принимать решения, я не имела права давать волю чувствам. Был поздний вечер, но никто не догадался выключить радио, диктор читал: «Марионетки Южного Вьетнама...» Мне кажется, в подобных случаях человек способен отключить все ненужные линии передач, сохранить в себе лишь голый рассудок и точность движений. К телефону. Звонить. Чтоб приезжали поскорей. Чтоб не мешкали. Назад к нему. Подушку под голову. Вода кипяченая? Андрис, быстро в кроватку! Только не давать волю чувствам.
Его увезла «скорая помощь», и крыло машины, песчаного цвета, почему-то напомнило о кладбище. Две колеи с рубчатым следом автомобильной покрышки раскинули во дворе петлю и скрылись в черной тьме подворотни. И тьма казалась беспросветной оттого, что там не было снега. А двор белел. И петля была наброшена, оставалось затянуть ее, и машина мчалась по улицам, волоча за собой колеи, словно веревки, и я все гадала, поспеют ли вовремя в больницу. Поехать с ним я не могла. Андрис.
— Ну?
Я стояла у окна, смотрела во двор, петли-колеи, превратившись в пару изогнутых скальпелей, остриями вонзились в тьму подворотни, и я ощутила боль. Вначале я даже не знала, что делать. Действовать, принимать решения? Но ведь ОНА стояла рядом. Отключить линии передач можно на короткий промежуток, теперь ток ринулся по нервным проводам, и меня всю передернуло. Подворотня, подворотня, почему нет снега в подворотне? Почему я задаю дурацкие вопросы? К телефону идти слишком рано, еще не добрались до больницы.
— Тяжело.
Я стараюсь себе представить, по каким они едут улицам, под асфальтом ли эти улицы или там булыжник, и не слишком ли заносит машину на поворотах. Хорошо бы снег успели счистить. На снегу колеса скользят. И я тихо про себя шептала: «Дайте зеленый свет. Давайте им только зеленый! Зеленый свет! Зеленый!»
— Он лежал за развалинами.
С утра пришла Талме, осталась с Андрисом. Я пошла в больницу. Меня к нему не пустили. К тяжело больным, к тем, которым дают кислород, к таким больным никого не пускают.
— Впереди поле.
Не пускают даже жену.
— На поле немцы.
Потом я сообразила, не пускают потому, что верят, он будет жить. Если бы не верили, пустили — проститься. Я сидела в коридоре. Я попросила, чтоб ему передали, я никуда не уйду, буду ждать, пока ему не станет лучше. Я принесла апельсины. Оранжевые апельсины. Какие еще могут быть апельсины? Солнечные? Ну, конечно, солнечные. Круглые, сочные, оранжевые, солнечные апельсины.
— Шел в наступление.
Пришли Юрис и Ева, и мы разделили горе на три части, и стало легче, я отважилась уйти домой. Ночью я дремала у телефона. Мне казалось, в любую минуту прозвенит этот черный звонок. Смерть и страхи приходят в полночь. Поутру, когда взлетели первые голуби, я посмотрела в зеркало и расплакалась. От радости, что ужасная ночь миновала. Он жив.
— Не мог.
Теперь я сижу в больнице, Андрис пристает ко мне с вопросами, вот идет врач, на нем белый халат, и коридор за ним бел, и врач улыбается, улыбается, улыбается. И сердце бьется быстро-быстро, и впервые за эти три дня я наконец ощутила, что у меня есть сердце.
— В грудь.
Я расцеловала врача.
— Разрывной.
И бегу в палату.
Свою жизнь Рудольф продумал и заново пережил в первые больничные недели. О работе он не думал или думал мало, работа представлялась далекой, нереальной. Его навещали, приносили цветы. Всех людей, с которыми он когда-либо встречался и которых мог припомнить, Рудольф связал в длинную цепь и этой цепью измерял свою жизнь. Не количество прожитых дней определяет длину жизни, ее определяют люди, которых ты встречал и знал. Если в цепи попадались ржавые звенья, Рудольф вырывал их, выбрасывал. Я спорил с братом, говорил, что людей нужно принимать такими, какие они есть. Разрывая цепь, он сам себя обкрадывает. Рудольф возражал: раз от них не узнаешь ничего нового, зачем тратить время, встречаться с ними. Но всерьез мы из-за этого не спорили, споров я старался избегать.
Когда ты болен, рассказывал Рудольф, мысли у тебя примитивные. И это хорошо. Я должен чувствовать, говорил он себе, я должен чувствовать все, что вокруг меня. И суровую простыню, и теплую шерсть одеяла. Я должен сам ощутить холодное железо кровати. Должен почувствовать свои метр девяносто. Почувствовать, как пружины матраса оседают под моими восемьюдесятью килограммами. Человек имеет вес — это что-то да значит. Я должен чувствовать сердце в груди, зубы во рту. Чувствовать глаза, мышцы ног и рук, вернее, то, что от них осталось. Я здорово сдал за последнее время. Жизнь медленно съедает мой вес. Но покуда я ощущаю себя, до